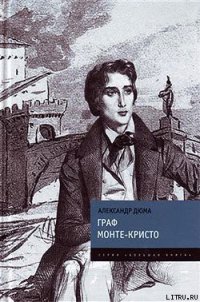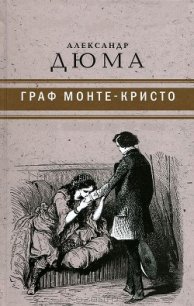Соратники Иегу - Дюма Александр (книги бесплатно без регистрации txt) 📗
Тем временем Морган, вскочив на коня, мчался карьером по дороге в картезианский монастырь. Подскакав к воротам, он вынул из кармана записную книжку, оторвал листок и написал карандашом несколько строк. Не слезая с коня, он свернул листок в трубочку и сунул его в замочную скважину.
Потом, пришпорив коня, пригнувшись к гриве благородного животного, он исчез в лесу, стремительный и таинственный, как Фауст, отправляющийся на шабаш в Вальпургиеву ночь.
На листке было написано следующее:
«Луи де Монтревель, адъютант генерала Бонапарта, сегодня ночью прибыл в замок Черных Ключей. Берегитесь, Соратники Иегу!»
Но, предупреждая друзей, чтобы они остерегались Луи де Монтревеля, он поставил над его именем крестик; это означало, что при любых обстоятельствах жизнь молодого офицера должна быть для них священной.
Каждый Соратник Иегу имел право оградить жизнь одному другу, не сообщая, почему он это делает.
Морган воспользовался этой привилегией: он позаботился о безопасности брата Амели.
XI. ЗАМОК ЧЕРНЫХ КЛЮЧЕЙ
Замок Черных Ключей, куда мы привели двоих из числа главных героев нашего романа, находился в живописном уголке долины, в которой расположен город Бурк.
К замку примыкал парк, занимавший около шести арпанов земли; там росли вековые деревья. С трех сторон парк был обнесен оградой из песчаника. Поражала своей красотой чеканная железная решетка ворот в стиле Людовика XV. С четвертой стороны парк окаймляла Ресуза, прелестная речка, которая берет начало возле Журно, в отрогах Юрских гор, медленно течет с юга на север и впадает в Сону близ Флервильского моста, перед Пон-де-Во, родиной генерала Жубера, за месяц до описываемых нами событий павшего в роковом сражении при Нови.
По ту сторону Ресузы, вдоль ее берега, справа и слева от замка Черных Ключей, виднелись селения Монтанья и Сен-Жюст, а выше — селение Сейзериа.
Дальше рисовались изящные силуэты предгорий Юры, а над ними вставали синеватые вершины гор Бюже, которые, казалось, с любопытством взирали через головы своих младших сестер на все происходящее в долине реки Эн.
Сэр Джон, проснувшись утром, увидел этот восхитительный пейзаж.
Быть может, первый раз в жизни замкнутый, молчаливый англичанин с улыбкой любовался природой. Ему казалось, что он чудом перенесся в одну из прекрасных фессалийских долин, прославленных Вергилием, или на мирные берега Линьона, воспетые д'Юрфе, чей дом, находившийся в трех четвертях льё от замка Черных Ключей, вопреки утверждению биографов, представлял собой развалины.
Но недолго англичанин предавался созерцанию этих красот; в дверь три раза тихонько постучали: радушный хозяин пришел осведомиться, как его гость провел ночь.
Ролан удивился, что лицо сэра Джона сияло как солнце, озаряющее пожелтевшую листву каштанов и лип.
— О, сэр Джон, — воскликнул молодой человек. — Позвольте вас поздравить! Я думал, что застану вас таким же унылым, как те несчастные монахи-картезианцы в длинном белом одеянии, которых я побаивался в детстве, хоть я и не из робких, — а между тем сейчас, когда на дворе хмурый октябрь, вы улыбаетесь, как майское утро!
— Дорогой Ролан, — отвечал сэр Джон, — я, можно сказать, сирота: мать я потерял при своем рождении, а отца — в двенадцать лет. В таком раннем возрасте, когда детей только еще определяют в коллеж, я уже обладал состоянием, приносящим более чем миллионный доход. Но я всегда был один-одинешенек, мне некого было любить, и меня никто не любил. Мне незнакомы тихие радости семейной жизни. С двенадцати до восемнадцати лет я учился в Кембриджском университете. Я от природы молчалив, немного высокомерен и никогда ни с кем не дружил. Восемнадцати лет я начал путешествовать. Вы, господа военные, носитесь по свету под сенью своих знамен; вы сражаетесь за честь родины, вас захватывает борьба, вас радует слава! И вы не представляете себе, какая тоска проезжать по разным городам, областям, государствам только для того, чтобы посмотреть здесь церковь, там замок; услышав голос безжалостного гида, вскакивать с постели в четыре часа утра, чтобы созерцать восход солнца над Риги или над Этной; проходить, подобно безжизненному призраку, среди живых теней, называемых людьми, не зная, где остановиться, где поселиться, на кого опереться, кому излить душу!.. Но вот вчера вечером, милый Ролан, я внезапно в одну минуту обрел полную жизнь! Я вместе с вами пережил столь желанные для меня радости, когда увидел вас в кругу вашей прекрасной семьи! Глядя на вашу матушку, я говорил себе: «Я уверен, что моя мать была именно такой!» Глядя на вашу сестру, я думал: «Мне хотелось бы иметь именно такую сестру!» Целуя вашего брата, я поймал себя на мысли, что вполне мог бы иметь сына такого же возраста и оставить в этом мире после себя живое существо. А между тем, при моем характере, я умру в печальном одиночестве, опротивев людям и надоев самому себе…
О! Вы счастливы, Ролан! У вас есть семья, вы прославили свое имя, вы в полном расцвете молодости и вдобавок одарены красотой — а ведь это благо и для мужчины! Вам доступны все радости жизни! Повторяю: вы счастливый, счастливейший человек!
— Все так, — ответил Ролан, — но вы забываете, милорд, о моей аневризме…
Сэр Джон посмотрел на молодого человека с недоверием: Ролан выглядел на удивление здоровым.
— Я с радостью обменял бы, Ролан, мои миллионы на вашу аневризму, — с чувством глубокой грусти сказал лорд Тенли, — если бы вместе с ним вы уступили мне вашу мать, плачущую от радости при виде вас; сестру, которой от душевного волнения при встрече с вами становится дурно; братца, который висит у вас на шее, как свежий прелестный плод на молодом прекрасном дереве! Если бы вдобавок вы отдали мне этот замок, тенистый парк, речку, протекающую среди цветущих лугов, синие дали, где белеют, как стая лебедей, живописные селения с гудящими колокольнями, — о, тогда бы я принял, Ролан, вашу аневризму, от которой мне предстояло бы умереть через два-три года, через год, пусть даже через шесть месяцев! Но эти полгода я жил бы среди радостей, тревог и опасностей, упивался бы славой и считал бы себя счастливцем!
Ролан рассмеялся своим обычным нервным смехом.
— О! Вот что значит быть туристом, путешественником-верхоглядом, Агасфером цивилизации! Он нигде не останавливается, не всматривается в жизнь, судит обо всем со стороны, по первому впечатлению и говорит, не входя в хижины, где живут безумцы, называемые людьми: «В этих стенах обитает счастье!» Так вот, мой дорогой, вы любуетесь этой прелестной речкой, не так ли? Этими цветущими лугами, этими живописными селениями? Вам кажется, что здесь господствует мир, непорочность, братство; что здесь век Сатурна, золотой век, эдем, земной рай! А между тем тут повсюду живут люди, готовые растерзать друг друга! В джунглях, окружающих Калькутту, в камышах Бенгалии не встретишь таких свирепых тигров и кровожадных пантер, как обитатели прелестных селений, расположенных среди зеленых лугов и на берегах этой пленительной речушки! Торжественно почтив память добросердечного, великого, бессмертного Марата (которого потом, слава Богу, выбросили на свалку, как падаль, какою он, впрочем, всегда был), почтив его память торжественным шествием, во время которого каждый нес урну, наполненную слезами, наши добрые, кроткие бресанцы, откармливающие пулярок, вдруг вообразили, что все республиканцы — убийцы, и принялись их истреблять! Они убивали их целыми возами, чтобы искоренить в них недостаток, присущий и дикарям, и цивилизованным людям, — привычку убивать себе подобных. Вы не верите? Ах, мой милый, если вам интересно, то на дороге, ведущей в Лон-де-Сонье, вам покажут место, где с полгода назад учинили такую резню, от которой пришли бы в ужас наши самые свирепые рубаки, подвизающиеся на поле брани! Представьте себе повозку, битком набитую узниками, которых везут в Лон-де-Сонье, одну из тех повозок с высокими бортами, в каких доставляют быков на бойню. В повозке около тридцати человек; это сумасброды, произносившие грозные речи, — вот и вся их вина! У них скручены руки и ноги, их немилосердно трясет, их головы ударяются о борт повозки; они тяжело дышат, изнемогая от жажды, охваченные отчаянием и ужасом. Во время Нерона и Коммода обреченные на смерть могли, по крайней мере, бороться в Колизее со зверями, встречая смерть с мечом в руках. А в наши дни эти несчастные лежат неподвижно, крепко связанные; так их и приканчивают. Их колотят и режут с остервенением, даже когда их сердце остановится. Без конца слышатся глухие удары и хруст костей. Женщины спокойно, с улыбкой смотрят на это избиение, они высоко поднимают своих ребятишек, а те хлопают в ладошки… Старики, которым следовало бы помышлять о христианской кончине, издеваются над умирающими, яростными криками поощряя палачей. Среди них выделяется плюгавый семидесятилетний старикашка, кокетливый, напудренный, стряхивающий пылинки со своего кружевного жабо. Он берет понюшки испанского табаку из золотой табакерки с бриллиантовым вензелем и вкушает конфетки, пропитанные амброй, вынимая их из севрской бонбоньерки, подаренной ему госпожой Дюбарри и украшенной ее портретом. Так вот, этот самый старикашка (вообразите себе, милый мой, такую картину!) топчет ногами мертвые тела, представляющие собой кровавое месиво, и, напрягая последние силенки, пронзает тростью с набалдашником золоченого серебра трупы, еще сохранившие человеческую форму…