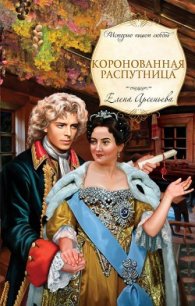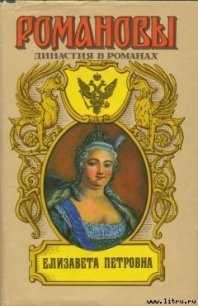Возлюбленная фаворита - Маурин Евгений Иванович (книги бесплатно без онлайн .txt) 📗
Тогда Орлов подарил этот дом Аркадию Маркову, которому он еще прежде для вида фиктивно проиграл его в карты. Марков не стал отказываться. С присущим ему коммерческим чутьем он очень выгодно распродал наиболее ценные вещи, а сам дом сдал за крупную сумму под немецкое посольство, которое как раз нуждалось в новом помещении. Это значительно увеличивало состояние Маркова.
Интересно отметить, что это письмо было от слова до слова продиктовано мне Аделью и сам я не прибавил ничего. Между тем Екатерина, которой Орлов показал его, решила, что Адель поступила так под моим влиянием, которое после смерти ее матери стало главенствующим. И резкая перемена образа жизни Адели, наступившая после смерти Розы, была тоже истолкована торжеством моего благотворного влияния. Следствием всего этого было получение мною вскоре строго официального письма от Одара, в котором секретарь ее величества сообщал мне, что государыне угодно видеть меня тогда-то вечером на эрмитажном собрании. Ее величество хочет предложить гостям интересную тему для обсуждения, в котором будет очень ценно мое участие, как признанного моралиста.
Конечно, последние слова принадлежали насмешливому уму Одара, так как их ирония звучала слишком открыто.
XII
Не помню, говорил ли я вам о том, что во время своих прежних посещений эрмитажных собраний я очень подружился с таинственной крестницей государыни, Катей Королевой? Вероятно, нет, так как в то время эта дружба не имела никакого значения для хода рассказа, а для запечатления всех подробностей нашего пребывания в Петербурге не хватило бы и двадцати томов.
Да, меня и хрупкую, нежную Катю действительно связывала самая чистая дружба. Ведь Кате говорил обо мне много хорошего «сам» маркиз де Суврэ, а это было самой лучшей рекомендацией для нее. Кроме того она слышала отзывы различных лиц обо мне, и это еще увеличило силу ее доверия. Да и я как-то обмолвился, что очень симпатизирую маркизу де Суврэ и недолюбливаю Григория Орлова.
Каждый раз, встречаясь с нею на эрмитажных собраниях, мы подолгу беседовали с нею. Точно так же и на этот раз вся прелесть моего посещения дворца заключалась в разговоре с Королевой.
Собственно говоря, главная цель, которой мотивировала государыня свое приглашение через Одара, была до смешного незначительна и пуста. На представлении «Меропы» государыня обратила особое внимание на последние две строки заключительного монолога второго акта, действительно произнесенные Аделью с необыкновенной силой и мрачной выразительностью: «Когда все потеряно, когда нет более надежды, жизнь является бесчестьем, а смерть – долгом».
Как раз на другой день государыне доложили о необыкновенном случае, происшедшем той ночью. Офицер де Керси, сын французского эмигранта, был известен как страшный забияка и в то же время трус. Ему предстояла утром дуэль на шпагах с им же вызванным князем Голицыным, одним из лучших мастеров шпаги в придворном обществе. Но де Керси так боялся этой дуэли, что предпочел ночью пустить себе пулю в лоб.
Вот по этому-то поводу у государыни зашел спор с Паниным. Екатерина выразилась, что отказывается понимать поступок де Керси. Ведь самоубийство является доказательством твердости характера и храбрости! На это Панин возразил, что самоубийство доказывает лишь малодушие и трусость: самоубийца – бесчестный должник, ускользающий от расплаты. Государыня сослалась на авторитет такого философа, как Вольтер, и привела эти две строки из монолога Меропы. Но Панин возразил, что автор не может быть признаваем ответственным за слова, которые он вкладывает в уста героя: например, у Шекспира Фальстаф открыто проповедует противонравственные теории, но это не значит, что и сам Шекспир восстает против нравственности. Аргумент Панина показался государыне довольно убедительным, и она решила разрешить интересовавший ее вопрос на ближайшем эрмитажном собрании.
Только никакого обсуждения на собрании не вышло. Изложив собравшимся «историю вопроса», Екатерина милостиво пожелала выслушать первым мое мнение. Ну, я и высказал все, что думаю по этому поводу!
Я сказал, что не знаю, вложил ли Вольтер в слова Меропы свое личное мнение или нет, но во всяком случае такой взгляд приличествует лишь язычнице Меропе, а не христианину, который в вопросах морали должен руководствоваться правилами своей религии. А христианская религия бесповоротно осуждает самоубийство как смертный грех. И, по-моему, самоубийство доказывает отсутствие не храбрости или трусости, а веры. Человек, искренне верящий в Бога, не потеряет надежды на Его милосердие, которое может проявиться даже тогда, когда кажется, что спасения быть не может. Пример этому мы видим хотя бы в той же самой трагедии «Меропа»: во втором акте королева предается отчаянию и не видит иного выхода, кроме самоубийства, а последний акт кончается ее полным торжеством!
– Таким образом, – закончил я, – для меня вопрос о самоубийстве представляется не в виде акта храбрости или малодушия, а просто следствием определенного мировоззрения. Языческое мировоззрение оправдывает самоубийство, христианство бесповоротно осуждает его. А ведь часто бывает, что человек является по внутреннему складу и убеждениям чистейшим язычником, хотя он и значится христианином.
– Но позвольте, уважаемый месье де Бьевр, – сказал тут с обычными обезьяньими ужимками Одар. – Значит, по-вашему, покончить с собой может лишь неверующий человек? Однако покойный де Керси был набожен до смешного! Я сказал бы: набожен, как истинный трус! Ну, как вы примирите это со своей теорией?
– Мы не знаем, был ли де Керси в здравом уме, когда решился на это страшное дело, – ответил я. – Ведь известны случаи, когда люди от страха сходили с ума, а вы же сами говорите, что он был страшным трусом. Я еще раз повторяю, что человек, совершающий или оправдывающий самоубийство, должен быть или неверующим, или сумасшедшим!
Ввиду того, что я сослался в доказательство своего воззрения на творения святых отцов, оспаривать мой взгляд было не очень-то удобно: это значило бы открыто признаваться в неверии. Таким образом, к моему величайшему удовольствию, это нелепое обсуждение на том и закончилось.
Как только гости разошлись группами и парочками, ко мне подошла Катя Королева.
– Господи, как давно я не видела вас, милый месье де Бьевр! – сказала она мне. – А мне вас так не хватало!
– Ого! – смеясь ответил я, усаживаясь с девушкой в одном из уютных уголков зала. – А что сказал бы наш общий друг, маркиз де Суврэ, если бы услыхал подобное признание? Жестокая! Вы хотите моей смерти! Ведь Суврэ немедленно вызовет меня на дуэль!
– Нет, – просто ответила девушка, – он этого не сделает. Суврэ знает, что я его так люблю, так люблю… Ах, что я только говорю! – перебила она сама себя, заалев и закрывая лицо руками.
– Полно вам стыдиться своего молодого счастья, дорогая моя! – ласково сказал я девушке. – Вы вот что мне скажите: поведали ли вы государыне тайну своего сердечка или все еще не решились?
– Нет, я еще ничего не говорила ей, но мне кажется, что она знает и относится благосклонно к нашей любви, – ответила Катя.
– О, так, значит, вас можно поздравить? Значит, ваше счастье не за горами? – весело спросил я.
– Оно дальше, чем было, – сказала девушка, с трудом подавляя слезы. – Ах, я так несчастна, так несчастна! Если бы я могла хоть с кем-нибудь поделиться своим горем.
– Как «хоть с кем-нибудь»? – удивленно воскликнул я. – А я? Разве…
– Осторожнее! – шепнула мне Катя. – Сюда идет Орлов! Говорите о чем-нибудь другом! Да скорее… Бога ради!
Я заговорил о театре, о произведениях Вольтера, о нравственных принципах, проводимых великим писателем со сцены. Подошел Орлов, с хмурой усмешечкой прислушался к моим разглагольствованиям, посмотрел на Катю долгим, тяжелым взглядом, заставившим ее побледнеть, и медленно прошел дальше.
– Ну-с, – сказал я, – чудище проползло мимо! Теперь мы можем прекратить разговор о Вольтере, который вас ничуть не интересует. Лучше расскажите мне, дорогая, что тревожит вас?