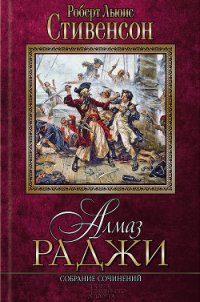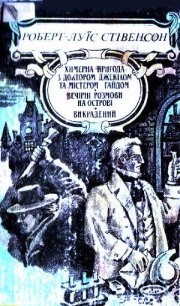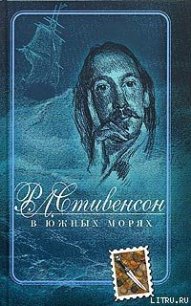Клад под развалинами Франшарского монастыря - Стивенсон Роберт Льюис (читать онлайн полную книгу TXT) 📗
На одной из тумб, стоящих по обе стороны ворот гостиницы госпожи Тентальон, доктор заметил маленькую, темную фигуру, сидевшую неподвижно в созерцательной позе, и сразу узнал в ней своего вчерашнего знакомца, Жана-Мари.
— А-а! — сказал он, подходя к мальчугану, и, остановившись против него, оперся обеими руками на свои колени и с добродушным любопытством посмотрел ему в лицо. — Видите ли, как мы рано встаем! Прекрасно! Как видно, мы страдаем всеми недостатками настоящего философа.
Мальчик соскочил с тумбы и серьезно и вежливо раскланялся.
— Ну, как наш больной сегодня? — спросил Депрэ.
Оказалось, что больной находился все в том же положении, как и вчера.
— Так, — сказал доктор, — а теперь скажи мне, зачем ты так рано встаешь?
После довольно продолжительного молчания Жан-Мари ответил, что он сам этого хорошенько не знает и потому не может сказать, зачем он рано встает.
— Так-так, — подтвердил доктор, — ты и сам не знаешь зачем, да и все мы едва ли что-нибудь знаем толком, прежде чем не постараемся это узнать, а чтобы узнать, почему и зачем мы что-нибудь делаем, надо спросить себя об этом. Ну-ка, попробуй себя спросить, подумай и скажи мне, как тебе кажется… Может быть, тебе нравится рано вставать?
— Да, нравится! — не спеша сказал мальчик. — Да, мне нравится, — повторил он еще раз, уже совершенно уверенно.
— Ну, ну, — ободрял его доктор, — а теперь скажи мне, почему тебе это нравится? Заметь, что мы с тобой теперь следуем методу Сократа, — вставил он, — итак, спроси себя, почему тебе нравится вставать рано?
— Крутом так тихо, так спокойно, — ответил Жан-Мари, — у меня в это время нет никакого дела, а затем, когда так тихо и никого нет кругом, чувствуется, как будто ты хороший.
Депрэ усмехнулся и сел на другую тумбу, по ту сторону ворот. Его начинал интересовать этот разговор с мальчуганом; Жан-Мари отвечал и говорил не наобум, а подумав, и старался на каждый вопрос ответить правдиво и по совести.
— Ты, как я вижу, испытываешь удовольствие чувствовать себя хорошим, — заметил доктор, — и признаюсь, это меня крайне удивляет; ведь ты же сам говорил мне вчера, что раньше ты воровал, а эти две вещи не вяжутся вместе — быть хорошим и воровать.
— А разве воровать так уж очень дурно? — спросил Жан-Мари.
— Да, таково по крайней мере общее мнение, мой милый друг, — ответил наставительно и слегка насмешливо доктор.
— Нет, вы меня не совсем поняли, — заметил мальчик, — я хотел вас спросить, так ли уж дурно воровать так, как я воровал, — пояснил он. — У меня не было выбора, я был вынужден воровать. Я полагаю, что не может быть дурно, что человек хочет иметь кусок хлеба, — ведь каждому надо есть! Это такая сильная потребность, что с ней спорить нельзя! Да еще, кроме того, меня прежестоко били, когда я возвращался домой ни с чем! — добавил он. — Я уже знал тогда, что хорошо и что дурно, потому что раньше того меня многому научил один добрый священник, который относился ко мне очень хорошо и которого все люди уважали. — При слове «священник» доктор скорчил отвратительную гримасу. — Но я думал, что когда человеку есть нечего, когда у него нет куска черствого хлеба, чтобы утолить свой голод, да когда еще вдобавок его бьют нещадно, то при таких условиях воровать, пожалуй, даже позволительно. Я не стал бы красть сласти или что другое ради лакомства, по крайней мере я думаю, что не стал бы, но мне кажется, что ради куска насущного хлеба каждый стал бы воровать!
— И я так полагаю, — согласился доктор. — Ну, а после каждой кражи ты, конечно, становился на колени и просил у Господа Бога прощения и объяснял ему весьма подробно все свои обстоятельства? — слегка насмешливо добавил он, усмехаясь.
— Нет, к чему? — удивился Жан-Мари. — Я не видел в этом никакой надобности.
— Вот как! Ну, а твой священник наверное бы увидел эту надобность! — все в том же тоне продолжал доктор.
— Вы так думаете? Неужели? — воскликнул мальчик и впервые смутился. — А я думал, что Господу Богу и без того все известно… что он и так все знает…
— Эге, — подтрунил доктор, — так вот ты какой вольнодумец!
— Я думал, что Бог сам меня поймет, — продолжал мальчик очень серьезно, не обратив внимания на последнее замечание своего собеседника, — а вы, как я вижу, этого не думаете, но ведь и сами эти мысли мои мне Бог вложил в голову! Разве нет?
— Ах ты, мальчуган, мальчуган! — почти сокрушенно промолвил Депрэ. — Я уже сказал тебе, что в тебе гнездятся все пороки философии, но если ты еще совмещаешь в себе и все ее добродетели, то мне, старому грешнику, остается только поскорее бежать от тебя без оглядки. Я, видишь ли ты, служитель и сторонник благословенных законов здоровой нормальной природы в ее простых и обычных проявлениях, и потому не могу равнодушно и спокойно смотреть на такое чудовище, на такого нравственного уродца! Понял ты меня?
— Нет, сударь, — ответил не задумываясь Жан-Мари.
— Ну, погоди, я постараюсь разъяснить тебе то, что я хотел сказать этими словами. Вот посмотри сперва сюда, — продолжал доктор, — видишь ты там это небо за колокольней, видишь, какое оно там светлое, бледно-бледно голубое? А теперь посмотри выше и еще выше, до самой верхушки небесного свода у тебя над головой, где небо густо-голубое, почти синее, как в полдень… Так! А теперь скажи мне, разве это не прекрасный цвет? Разве он не ласкает глаза? Не радует сердца? Мы видим это голубое небо изо дня в день в течение всей нашей жизни, мы до того свыклись, сроднились с ним, что даже наша мысль видит его таким. Но предположим, — продолжал Депрэ, переходя от любовного умиления, с каким он говорил о голубом небе, к совершенно иному тону, — предположим, что это небо вдруг бы сделалось яркого янтарно-огненного цвета, подобно цвету горячих углей, а в самом зените небесного свода огненно-красным. Я не скажу, что это было бы менее красиво, нет! Но нравилось бы оно тебе так же, как это наше голубое небо?
— Я думаю, что нет, — сказал Жан-Мари.
— И я также не мог бы его любить, — продолжал доктор несколько грубо, — я ненавижу все странное, и странных людей в особенности; а ты самый странный, самый своеобразный мальчуган, какого я когда-либо встречал в своей жизни!
Жан-Мари некоторое время молчал и как будто что-то обдумывал, а затем поднял голову и взглянул на доктора с добродушно вопрошающим видом.
— А вы сами, разве вы не чрезвычайно странный господин? — спросил он.
Тогда доктор бросил на землю свою палку, кинулся к мальчугану, прижал его к своей груди и звонко расцеловал его в обе щеки.
— Превосходно! Бесподобно, малыш! — восклицал он. — Нет, какое прекрасное утро! Какой счастливый, какой удачный день для старого сорокадвухлетнего теоретика! А? Нет, — продолжал он, как бы обращаясь к небесам, — ведь я даже не знал, что такие мальчуганы существуют на свете! Я сомневался, чтобы род человеческий мог производить подобных индивидуумов! Вот теперь, — добавил он, подымая с земли свою палку, — эта встреча для меня точно первое любовное свидание. Я сломал свою любимую трость в момент энтузиазма, но это не беда! Можно будет поправить.
И взглянув на мальчика, он уловил на себе его взгляд, полный удивления, недоумения, смущения и даже смутной тревоги.
— Э! — воскликнул он, обращаясь к мальчугану. — Отчего ты так смотришь на меня? Право, кажется, этот малыш презирает меня, — пробормотал он в сторону. — Ты презираешь меня, что ли, мальчуган? — обратился он снова к нему.
— О нет, — отозвался Жан-Мари совершенно серьезно, — нет, но только я не понимаю вас.
— Вы должны извинить меня, сударь, — продолжал доктор с некоторой напыщенностью, — я еще слишком молод. «Черт бы его побрал!» — мысленно добавил он про себя, опять сел на свое прежнее место и несколько насмешливо стал наблюдать за мальчиком.
«Он мне испортил это прекрасное, спокойное утро, — думал он, — теперь я буду нервничать весь день и пищеварение будет неправильное — лихорадочное, надо непременно успокоиться». И, сделав над собою усилие, он отогнал от себя все тревожившие и волновавшие или даже сколько-нибудь смущавшие его мысли тем усилием воли, к которому он давно уже приучил себя. Теперь помыслы его стали блуждать среди окружавших его знакомых и любимых предметов: он любовался и наслаждался прекрасным утром, вдыхал в себя свежий утренний воздух и с видом знатока смаковал его, как смакуют любители хорошее вино, а затем медленно выдыхал его, как то рекомендуется предписаниями гигиены; он считал маленькие облачка на небе, следил за полетом птиц вокруг церковной колокольни, мысленно описывал вместе с ними длинные, плавные взлеты и спуски, или паря в воздухе, или же проделывая удивительные воздушные сальто-мортале и рассекая воздух воображаемыми крыльями. Таким способом доктор в короткое время вернул себе прежнее спокойствие духа, животное благодушие и полное сознание своих движений, своих чувств и ощущений, сознание, что воздух имел прохладный и освежающий вкус, напоминающий вкус сочного спелого плода, и, совершенно поглощенный этими ощущениями и их мысленным анализом, он от избытка благодушного настроения запел. Он знал всего только один мотив — «Мальбрук в поход собрался», да и тот он знал не совсем твердо и обращался с ним довольно бесцеремонно. Впрочем, свои музыкальные таланты доктор проявлял обыкновенно только в те минуты, когда он бывал один и чувствовал себя особенно благодушно настроенным, когда он чувствовал себя, так сказать, вполне счастливым.