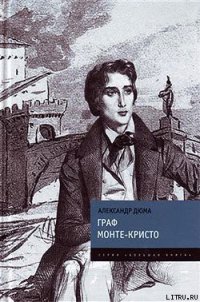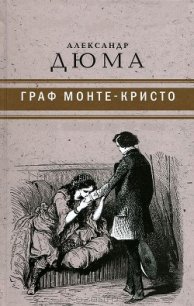Соратники Иегу - Дюма Александр (книги бесплатно без регистрации txt) 📗
Тюремщики надежно вооружились, прежде чем войти в камеру, где находились эти четверо несчастных. Накануне вечером они покинули преступников со скрученными руками и ногами и скованными тяжелыми цепями; но теперь тюремщики не могли с ними справиться. Заключенные оказались свободными от цепей и вооруженными до зубов. Они беспрепятственно вышли из камеры, заперев своих стражей на все замки и засовы. Завладев всеми ключами, они быстро прошли по тюрьме до самого двора. Народ, столпившийся перед воротами, с ужасом взирал на них. Они были обнажены до пояса, чтобы обеспечить себе свободу движений или чтобы иметь устрашающий вид, подтверждая свою репутацию отчаянных храбрецов; но, может быть, они просто не хотели, чтобы кровь бросалась в глаза на белом полотне, выдавая судорожные движения смертельно раненного человека. Лямки, перекрещенные на груди, ножи и пистолеты за широкими красными поясами, яростные крики, с которыми они шли в бой, — все это казалось чем-то фантастическим. Выйдя во двор, они увидели неподвижный развернутый строй жандармов, который немыслимо было прорвать. На минуту они остановились и, казалось, совещались между собой. Лепретр, который, как я уже упоминал, был старшим и главенствовал над ними, движением руки приветствовал пикет и проговорил со свойственным ему благородным изяществом:
— Браво, господа жандармы!
Затем он подошел к товарищам, горячо простился с ними навеки и выстрелил себе в висок. Гюйон, Амье и Ивер заняли оборонительную позицию, наведя свои двуствольные пистолеты на боевой отряд. Они не стреляли, но жандармы восприняли эту демонстрацию как враждебный акт. Раздался залп. Гюйон упал, сраженный насмерть, на неподвижное тело Лепретра. У Амье было перебито бедро около самого паха. В «Биографии современников» сообщается, что он был казнен. Многие мне рассказывали, что он испустил свой последний вздох у подножия эшафота. Оставался один Ивер. Его отвага и самообладание, пылающий гневом взор, пистолеты, которыми он умело и ловко орудовал, угрожая солдатам, — все это наводило на зрителей ужас. Но они с каким-то невольным отчаянием восхищались красивым юношей с развевающимися волосами, который, как было всем известно, никогда не проливал крови, но должен был по приговору правосудия искупить кровью свою вину. Он попирал ногами три окровавленных тела и напоминал волка, затравленного охотниками. Зрелище было так ужасно и необычно, что на минуту остановило яростный порыв солдат. Приметив это, он пошел на переговоры.
— Господа! — крикнул он. — Я иду на смерть! На смерть! Я жажду ее! Но пусть никто ко мне не приближается, а не то я вмиг уложу любого, если только это не будет вон тот господин, — добавил он, указывая на палача. — Это уже наше с ним дело, и мы знаем, как к нему приступить.
Согласие было нетрудно получить, ибо все присутствующие страдали от этой затянувшейся страшной трагедии, всякому хотелось, чтобы она поскорее пришла к концу. Увидев, что его условия приняты, Ивер взял в зубы один из пистолетов, выхватил из-за пояса кинжал и вонзил его в свою грудь по самую рукоятку. Он остался стоять и, казалось, был сам этим удивлен. Солдаты хотели было ринуться на него.
— Потише, господа! — крикнул он, снова схватив пистолеты и направляя их на жандармов. (Между тем кровь хлестала потоками из раны, где торчал кинжал.) — Вы знаете мои условия: или я умру один, или со мной умрут еще двое. Вперед!
Его никто не остановил. Он направился прямо к гильотине, поворачивая нож у себя в груди.
— Честное слово, — воскликнул он, — я живуч как кошка! Никак не могу умереть. Выходите уж сами из положения!
Эти слова были обращены к палачам.
Через минуту упала его голова. Благодаря чистой случайности или в силу поразительной живучести юноши она подпрыгнула, откатилась далеко от гильотины, и вам еще сейчас расскажут в Бурке, что голова Ивера что-то произнесла».
Не успел я прочитать этот отрывок, как у меня уже созрело решение бросить «Рене из Аргонна» и заняться «Соратниками Иегу».
На следующее утро я спускался по лестнице с саквояжем в руке.
— Ты уезжаешь? — спросил Александр.
— Да.
— Куда же?
— В Буркан-Брес.
— Зачем?
— Познакомиться с местностью и выслушать воспоминания свидетелей казни Лепретра, Амье, Гюйона и Ивера.
Два пути ведут в Бурк если, разумеется, вы направляетесь туда из Парижа: можно сойти с поезда в Маконе и сесть в дилижанс, который отвезет вас в Бурк, или проехать по железной дороге до Лиона и пересесть на поезд, циркулирующий между Бурком и Лионом.
Я колебался, не зная, что предпочесть, но спутник по вагону вывел меня из затруднения. Он направлялся в Бурк, где, по его словам, у него имелись дела; он ехал через Лион, значит, дорога через Лион была самой лучшей. Я решил ехать тем же путем, что и он.
Я переночевал в Лионе и на другой день в десять часов утра был уже в Бурке.
Там меня нагнал номер газеты, издававшейся во второй столице королевства. Я прочитал кисло-сладкую статью, посвященную мне. Лион никак не может мне простить: видите ли, еще в 1833 году, двадцать четыре года назад, я сказал, что он нелитературный город.
Увы! Я и сейчас, в 1857 году, придерживаюсь мнения, какое составил о нем в 1833 году. Я не так-то легко изменяю свои убеждения.
Есть во Франции и другой город, который имеет на меня зуб почти так же, как Лион: это Руан. Он освистал все мои пьесы, в том числе и «Графа Германа».
Как-то раз один неаполитанец хвастался передо мной, что он освистал Россини и знаменитую Малибран, «Цирюльника» и Дездемону.
— Это похоже на правду, — отвечал ему я, — потому что Россини и Малибран, в свою очередь, хвалятся тем, что они были освистаны неаполитанцами.
Итак, я хвастаюсь тем, что меня освистали руанцы.
Но вот однажды, когда мне подвернулся чистокровный руанец, я решил допытаться, почему меня освистывают в Руане. Что поделаешь! Я люблю доискиваться до правды даже в мелочах.
Руанец мне отвечал:
— Мы вас освистываем, потому что злы на вас.
Ну что ж, это неплохо! Ведь Руан обижался на Жанну д'Арк! Но, конечно, на сей раз их досада была вызвана другой причиной.
Я спросил руанца, почему он и его земляки так злобствуют на меня; я никогда не говорил ничего дурного об их яблочном сахаре; выказывал почтение г-ну Барбе все время, пока он был мэром; будучи направлен Обществом литераторов на открытие памятника великому Корнелю, я единственный из всех выступающих догадался отвесить поклон перед тем как произнести свою речь.
Казалось бы, здраво рассуждая, я не давал руанцам ни малейшего повода к ненависти.
Итак, выслушав гордый ответ: «Мы вас освистываем, потому что злы на вас» — я смиренно задал вопрос:
— Боже мой, за что же вы на меня злитесь?
— Вы сами знаете, — отозвался руанец.
— Я? — вырвалось у меня.
— Да, вы.
— Ну все равно, отвечайте мне, как если бы я ничего не знал.
— Вы помните обед, который вам дал город в связи с открытием памятника Корнелю?
— Как не помнить! Что же, Руан злится на меня за то, что я в свою очередь не дал ему обеда?
— Ничуть не бывало.
— В чем же дело?
— Так вот, на этом обеде было сказано: «Господин Дюма, вы должны были бы написать пьесу для города Руана на тему, заимствованную из его истории».
— На что я ответил: «Нет ничего проще; по первому же вашему требованию я приеду на полмесяца в Руан. Мне дадут тему, и за две недели я напишу пьесу, весь доход от которой поступит в пользу бедных».
— Правда, вы это сказали.
— Чем же я заслужил ненависть руанцев? Что же тут было оскорбительного?
— Ничего. Но вас спросили: «Вы напишете пьесу прозой?» — на что вы изволили ответить… Помните, что вы ответили?
— Честное слово, нет.
— Вы ответили: «Я напишу ее в стихах, так будет скорее».
— Да, в этом я весьма искусен.
— Ну так вот…
— Что же дальше?
— Дальше, — этим вы нанесли оскорбление Корнелю, господин Дюма! Вот почему руанцы злы на вас и еще долгое время будут сердиться.