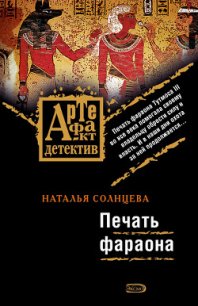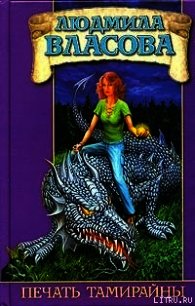Печать и колокол - Кларов Юрий Михайлович (хороший книги онлайн бесплатно .txt) 📗
Но работа сотрудников Народного комиссариата художественно-исторических имуществ Республики и Всероссийской комиссии по охране и раскрытию произведений искусства, членом которой я также состоял, не ограничивалась, разумеется, воззваниями, циркулярами и предписаниями. Перед нами была поставлена задача разыскать, реквизировать и обеспечить сохранность всего, что представляло ценность. А это, смею вас уверить, была в тех условиях очень сложная, а по мнению некоторых искусствоведов, и просто непосильная задача. В том же Петрограде, помимо всем известных сокровищниц, таких, как Эрмитаж, музей императора Александра III и музей Академии художеств, существовали большие частные коллекции графов Строгановых, княгини Юсуповой-Сумароковой-Эльстон, великолепная пинакотека, то есть картинная галерея, голландских и фламандских художников Семенова. В так называемом минц-кабинете великого князя Георгия Михайловича хранилось лучшее в мире собрание монет древнегреческих поселений на юге России. А в тайнике владельца антикварного магазина Гребнева мой помощник, рабочий-путиловец Борис Ивлев, вместе с сотрудниками ВЧК отыскал ящики со скифским золотом и, как он выразился, «каменных и золотых жучков». «Жучки» оказались древнеегипетскими скарабеями, среди которых, кстати, был великолепный скарабей из аметиста с вырезанной на внутренней стороне надписью. Подобные скарабеи влагались в мумии знатных египтян вместо вынутого из тела сердца. Надпись на аметистовом скарабее убеждала сердце покойного не свидетельствовать против него на загробном суде.
Тому же Ивлеву посчастливилось в Москве, куда мы переехали в конце лета, обнаружить в подвале покинутого хозяевами особняка около сотни старинных вееров. Среди них были и японские из белой пеньковой бумаги с рисунками известных художников. Подобные веера-картины в середине прошлого века продавались в Лондоне по 900 фунтов стерлингов за штуку.
Надо сказать, что в Москве к привычным уже для нас трудностям прибавилась еще одна – отсутствие подходящих хранилищ. Третьяковка, Оружейная палата, Румянцевский и Исторический музеи не в силах были сразу же принять беспрерывно поступающие к ним произведения искусства. Поэтому многие из национализированных вещей приходилось временно размещать в здании наркомата, а то и на квартирах сотрудников.
Ивлев, в обшарпанную комнатку которого привезли как-то портрет кисти Рембрандта и несколько полотен Гогена, спал с маузером под подушкой, а днем бегал по музеям и комиссиям, грозясь перестрелять саботажников.
Своеобразный вид приобрел и мой номер в бывшей гостинице «Метрополь», ставшей Вторым Домом Советов.
Чего здесь только не было!
Под моей кроватью мирно спала тысячелетним сном в обществе набальзамированных священных кошек, змей и симпатичного нильского крокодильчика очаровательная мумия, недавняя собственность московского фабриканта Гречковского. Под головой ее лежал положенный тысячи лет назад полотняный круг с хороводом веселых павианов, бурно приветствующих всемогущего бога солнца, а на лице покоилась позолоченная маска.
Место под софой занимали скифские древности: колчаны для смертоносных стрел с тиснеными золотыми бляхами, золотые венки и серебряная ваза для вина, украшенная изображениями трав, цветов и хищных грифов, терзающих оленя.
Возле умывальника в целомудренной позе стояла беломраморная Венера, которая благосклонно взирала на меня, когда я совершал свой утренний и вечерний туалет. Венере плутовски подмигивала с полки чудесная статуэтка жизнерадостного фламандца Виллема Бекеля, прославившегося в XIV веке усовершенствованием засола сельдей. Видимо, его селедки действительно заслуживали всяческой похвалы: недаром же гробницу Виллема посетил как-то в сопровождении своих сестер, королев Франции и Венгрии, высокомерный Карл V, а поэт Кемберлин воспел фламандца в своих стихах.
Немецкие кубки второй половины XVI века в виде парусных кораблей, ветряных мельниц, толстопузых монахов и длиннохвостых павлинов; этрусские и византийские вазы; китайские, персидские и французские веера.
Но больше всего места занимало собрание старинного индусского оружия. Я мог вооружить не один десяток воинов. У меня имелись пенджабские куйтсы, смертоносные мару, кривые, как полумесяц, ножи кукри, отделанные слоновой костью грозные палицы и знаменитые малайские крисы…
И вот однажды в моем номере, одновременно похожем на антикварный магазин и арсенал индусского раджи средней руки, появился поздним вечером некий молодой человек.
Странного посетителя нельзя было назвать ни товарищем, ни господином. Для «товарища» у него были слишком холеные руки с длинными, до блеска отполированными ногтями, привычное грассирование и манеры «человека из общества». А для «господина»… Одежда молодого человека полностью соответствовала революционным канонам того бурного времени: высокие, заляпанные грязью сапоги, кожаная потрепанная куртка, косоворотка, кожаный картуз с красной ленточкой. Кроме того, он виртуозно скручивал пресловутые «козьи ножки» и безбожно дымил махоркой. В лице его тоже было что-то и от «товарища» и от «господина». А главное, оно дышало честностью и благородством – особенность, по которой я обычно определял жуликов. Поэтому я сухо ответил на приветствие незнакомца и еще суше поинтересовался:
– Чем могу быть полезен, гражданин?
Незнакомец с ответом не торопился, продолжая с веселой наглостью разглядывать экспонаты моего импровизированного музея.
Его глаза небрежно скользнули по индусскому оружию, на мгновение задержались на веерах и внимательно ощупали статуэтку фламандца.
– Если память мне не изменяет, на аукционе в девятьсот шестнадцатом она пошла за семь тысяч, а стоит-то все пятнадцать, а?
Любитель махорки неплохо разбирался в антиквариате…
– Стул предложить не собираетесь?
– Садитесь.
– Благодарю вас.
Он сел одновременно со мной. Спросив разрешения, закурил и заверил, что с младых ногтей сочувствовал революции и революционерам, а большевиков просто боготворил. Именно поэтому он и хочет через меня передать в дар Советской власти некую уникальную вещь.
Меньше всего он был похож на бескорыстного дарителя, поэтому я на всякий случай уточнил:
– Безвозмездно?
– Разумеется, – подтвердил он. – Ведь те жалкие двадцать тысяч рублей, которыми, надеюсь, Советская власть поощрит мой благородный патриотический поступок, ни один нормальный человек не назовет деньгами…
– Гм… Двадцать тысяч.
– Да, всего-навсего двадцать тысяч.
– Вам разве неизвестно, что мы ничего не покупаем?
– Известно. Вы национализируете и реквизируете. Но существуют, понятно, исключения. Мне думается, перстень-талисман Александра Сергеевича Пушкина, например, мог бы стать таким исключением, не правда ли?
Надо сказать, что в марте 1917 года возвращенный Полиной Виардо сердоликовый перстень поэта вместе с некоторыми другими вещами был украден из Пушкинского музея в Александровском лицее. Почти все украденное тогда же удалось разыскать, но перстень бесследно исчез. Все усилия Петроградской уголовно-розыскной милиции ни к чему не привели.
Уж не вор ли передо мной?
Я стал лихорадочно прикидывать, как лучше задержать этого подозрительного человека.
Но перстень, который положил на стол посетитель, был не сердоликовый, а изумрудный…
Изумруд!..
Я тут же вспомнил про изыскания отца, и у меня перехватило дыхание.
Неужто он был полностью прав, считая, что своим талисманом Пушкин все-таки признавал не сердолик, не бирюзу, а изумруд?
Золотой перстень с овальным изумрудом…
Когда я доставал из ящика стола ювелирную лупу, у меня тряслись руки.
Изумруд в перстне был густого ровного темно-зеленого цвета – такие изумруды французские ювелиры называют «Emeraude de Tynka». Большинству изумрудов свойственны изъяны в виде трещин, темных пятнышек слюдяного сланца или черных черточек – «пике». Когда-то для устранения подобных дефектов камни проваривались в очищенном прованском масле, подкрашенном зеленой краской. Но изумруд в перстне, насколько я мог определить, проварке не подвергался: косметика ему не требовалась. Великолепный, совсем прозрачный кристалл с характерным стеклянным блеском.