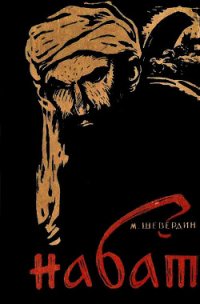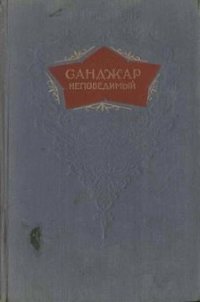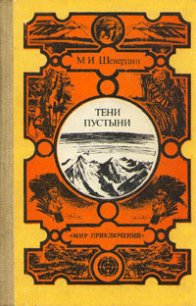Набат. Книга вторая. Агатовый перстень - Шевердин Михаил Иванович (версия книг txt) 📗
— Ну, как видите, никто и не подумал слушаться нового великого султана новоявленной империи. Никто не испугался. Теперь Энвер прислал письмо мне с угрозой, что если я не сдам ему Байсуна в двадцать четыре часа, то мне придется выдержать борьбу со всем верховным диваном Хивы, Бухары и Туркестана. Что это ещё за верховный диван, я не знаю, но я знаю, что Энвер готовится к наступлению, что он сосредоточил двадцать тысяч головорезов, что Британия переправила через Аму-Дарью свои части и сосредоточила у границы ещё около десяти тысяч войск с двенадцатью орудиями. Нас хотят запугать, но мы не из трусливых. Энверу я уже ответил: «Главнокомандующему всеми басмаческими шайками Энверу. Получено от вас уже второе письмо, в котором вы предлагаете сдать вам Байсун и очистить всю Восточ-ную Бухару. Прежде всего, сдать вам Байсун я как начальник байсунского гарнизона без соответствующего приказа моего высшего командования не могу. Кроме того, как армия рабочих и крестьян, построенная на сознатель-ной дисциплине, всегда готова встретить вас, как бандитов, не дающих гражданам заниматься мирным трудом».
Остался недоволен ответом один Сухорученко.
— Надо б котнуть бандюка большим адмиральским. Вот это бы дело.
— Опыт прошлогодней Гиссарской экспедиции мы учли, — продолжал комдив, явно игнорируя Сухорученко. — Теперь несколько месяцев ушло на подготовительный период. Военно-политическое обеспечение тыла у нас прочное.
Пора самим переходить в наступление...
— Трудящиеся Бухары обратились за помощью к Советскому Союзу, и по личному указанию товарища Ленина такая военная и экономическая помощь оказана. Уполномоченный ЦК РКП (б) товарищ Орджоникидзе принял меры по укреплению партийных и советских органов в Бухаре и мобилизации трудящихся на разгром сил контрреволюции. Вы энаете, Туркфронт уже помог Бухарской Республике. Из красноармейских частей Туркфронта создана 1-ая отдельная кавалерийская бригада и послана из Самарканда в Бухару. С марта по сегодняшний день славные бойцы бригады задали жару Абду Ка-гару под Бухарой, Зиатдином, Кермине. Банды Даниара, соединившиеся с Хуррамбеком, нацеленные по заданию Энвербея на Самарканд — Бухару, разгромлены и вышиблены из Карши-Шахрисябзского оазиса. Эмиссар, руководивший всей этой операцией, нашёл свой жалкий конец, в чем мы выражаем соболезнование его лондонским хозяевам. «Не суйся в воду, не зная броду». Товарищ Орджоникидзе поздравил Красную Армию. Разрешите огласить телеграмму на имя бухарских товарищей: «Бесконечно рад вашим успехам. С Энвером драться придется серьёзно, но уверен, что ему свернём шею. Со своей стороны обещаю, насколько в силах буду, тоже помогать в этой, в высшей степени важной и тяжёлой работе».
— Даёшь Энверку!
— Свернуть шею, хорошо сказано.
— Пора ударить!
Командиры шумно реагировали на приветствие Серго Орджоникидзе.
Только Сухорученко опять остался не совсем доволен.
— Работа? Какая же это тяжёлая работа? Никогда не слышал, чтобы рубку называли работой. Это война!
Но оставляя на совести Сухорученко его не слишком мрачный комментарий, комдив приступил к разбору предстоящей операции.
Был разработан подробный план действий против Энвера вновь созданной Бухарской группы войск.
— Удар наносим по двум направлениям: левая колонна от Байсуна на Денау, Гиссар, Дюшамбе и дальше — в горы на Файзабад. Правая колонна — от треугольника Ширабад — Кокайты — Термез вдоль границы Афганистана на Кабадиан — Курган Тюбе — Куляб — Бальджуан.
— План ясен! — закончил комдив одиннадцатой. Задача не только разгромить Энвера, но и окружить, уничтожить, не пустить наполеончика на юг, на переправы через Аму-Дарью, не дать уйти ему в Афганистан. Поэтому правая колонна пойдёт быстрее и решительнее. На север через снеговые перевалы Гиссара Энвер не сунется. Вот придётся ему отступать в дикие, пустынные горы Кара-тегина и Дарваза, бедные средствами. Так мы загоним его в каменный мешок.
Мешок явно понравился Сухорученко. Всегда красное лицо его ещё более покраснело, а кудлатая голова совсем раскудлатилась. С широкоскулого лица его сошла сразу же недовольная гримаса, вызванная замечаниями комдива, и он опять, забывшись, закричал столь громогласно, что все вздрогнули и чертыхнулись.
— Правильно... в мешок его, свинтуса г... ного.
Все не выдержали и улыбнулись, а комдив только сокрушенно пожал плечами.
— Прекрасно, Сухорученко, — сказал он. — Вот тебе и начинать. Двинь эскадрон на Рабат и Аккабаз. Расширь плацдарм на восемь-десять верст к югу.
— Есть, товарищ комдив, — и кудлатый Сухорученко вытянулся, — расширить плацдарм. Когда начинать?
Красное, лоснящееся лицо Сухорученко сияло так, что в комнате словно посветлело.
— По коням! Жми на все педали.
Сухорученко кинулся к двери.
— Только врагов всё же считай, — бросил комдив вслед, — хотя бы после боя...
Через открытую дверь из тёмной южной ночи только донеслось:
— Коновод... дьявол Федька... коней давай...
Негромко, точно думая вслух, комдив одиннадцатой сказал:
— Лихой рубака, анархист шалый.
Невольно все головы повернулись к открытой двери. У многих в голове промелькнули калейдоскопически факты из жизни комэска, товарища, и, как он себя называл, гражданина мира Сухорученко Трофима Павловича.
Жизнь его до 1919-го складывалась тишайшая, растительная. И никто, да и он сам не мог бы и подумать, что когда-нибудь Трофим возьмёт в руки саблю. Жил Трофим на задворках городишка Хреновое, затерявшегося к кизячной Воронежской степи. Даже паровозные свистки едва доносились от станции и не колебали огоньков лампадок, теплившихся в деревянном домике перед потемневшими иконами. Неслышно ступая опухшими ногами в суконных шлепанцах, бродила из горницы в горницу Ильинична, мамаша Трофима. «Мы, — говаривала она, — мещане исконные, что нам. Картошечка свово огороду есть — и хватит...» Конечно, «картошечка свово огороду» была только, так сказать, символикой. Ильинична шинкарила из-под полы и имела деньжат полную мошну про чёрный день. Ни она, ни сынок её флегматичный Трошка не работали нигде, но и буржуями их назвать никто не решался. Домик они имели справный, но небольшой. Батраков Сухорученко не нанимали. Против революции не высказывались. Ну, и события шли мимо, а сам Трофим потихоньку-полегоньку толстел «на картошечке», раздавался вширь, сидел на кровати с молодой такой же расплывшейся женой, тискал её. Мать нет-нет да и расшумится: «Что это ты, Павлуша, а? Виданное ли дело, не слезаешь с перины. Чать уж какой год женат. Побойтесь бога. Пора и делом заняться». Но делать Трофиму в доме Ильиничны решительно было нечего. Никуда он не ходил. Бывало только услышит стрельбу или крик, вырвется из жарких объятий своей Агашки, выйдет в одних исподних из низенькой каморки и, почесываясь, поглядывает вокруг: «Что-де приключилось?» Но сам чтобы пойти на митинг или пройтись просто по улицам, — ни-ни! Больно беспокойно. Задерут какие хулиганы аль «товарищи». Зевнёт, перекрестит рот — и опять в постель, под горячий бок супруги. Так и жил Трофим в душном липком дурмане. И не пил, и не буянил, и даже своим бабам ни в чем не перечил. «Ну их! С ними только в голове гуд!» Утром встанет, подзаправится пирожком с капустой, чайку попьёт, в огороде малость покопается да и от-дохнуть завалится на перину, а там полдник. Подрумяненный курник в глиняном горшке Ильинична на стол волокет. После полдника — опять перина. Смотришь, Ильинична к обеду кличет. После обеда посидит на завалинке, семечки полузгает или через подловку на тесовую крышу заберётся голубей гонять, а там к вечерне отзвонят и ужин подоспеет. Ну, после ужина к чему огонь жечь, ещё пожара наделаешь, не дай господи, и опять на боковую — к жене на двуспальную кровать. Ильинична иной раз поворчит малость, что сноха мало помогает по хозяйству: «Эх ты, толстозадая. Всё с Трошкой на пуховиках проклажаешься. Хоть бы одно дите бог дал...» Вишь какие битюги, да толку мало».