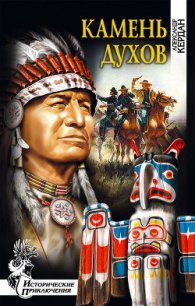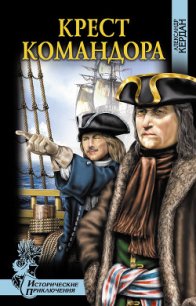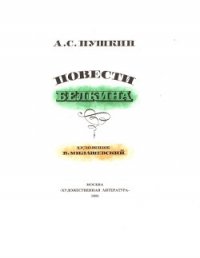Невольники чести - Кердан Александр Борисович (лучшие книги без регистрации txt) 📗
Одного она одаривала улыбкой первой красавицы бала, за которой шлейфом вьются толпы воздыхателей. Другому представлялась пулей, только оцарапавшей щеку на дуэли с опытным противником. Третьему – являлась бог весть откуда свалившимся наследством, оборачивалась выгодным браком или нечаянно открывшейся вакансией.
Но мало кто даже из этих счастливчиков, наверное, догадывался, что самая великая удача – это просто жить! Жить, не ведая скуки и печали. Ибо только эти две вещи по-настоящему отравляют человеческое бытие, делают его несносным и пустым… Правда, бывают ситуации и пострашнее, когда даже скуку с печалью вам разделить не с кем, когда лишены вы возможности общаться с себе подобными, выйти вон из опостылевшей вам темницы… Тогда, именно тогда, мозг – этот паразит живого организма – начинает томиться, страдать от недостаточного притока крови, который порождается физической деятельностью: охотой, любовью, войной, наконец, дурачествами или картами, изобретенными обществом с одной целью – убить время…
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait… – вот все, что остается узнику.
…Оказавшийся под арестом в тесной каюте «Надежды», лишенный карт, лошадей, женщин и даже вина, граф Федор Иванович Толстой скучал самым отчаянным образом.
– Какая нелегкая занесла меня в этот круиз? – в который раз задавал граф себе один и тот же вопрос, ответ на который, к слову, был ему прекрасно известен. Однако начни он теперь убеждать себя, что отправиться в кругосветный вояж побудило его не желание повидать свет, а некоторые обстоятельства, не терпящие отсрочки, а пуще того, решение семейного совета Толстых, твердо обязавшее Федора Ивановича заменить в путешествии своего кузена и выпускника Морского шляхетского корпуса Федора Петровича Толстого, станет на душе еще мрачнее.
Нет уж, лучше думать о приятном… К сожалению, таковых мыслей и воспоминаний у графа в этот миг не нашлось. Чтобы не завыть в голос от тоски, смешанной со ставшими привычными за месяцы плавания легкими приступами морской болезни, Федор Иванович подобрал с пола обломок шпаги и принялся методично метать его в дверь, гадая, войдет ли кто в каюту в сей неподходящий для визита момент или нет…
Метать клинок бесцельно ему вскоре надоело, и граф, усмехнувшись, подошел к столу. Сломав два гусиных пера, на обрывке пергамента нарисовал мерзкую физиономию капитана, свечой притеплил концы рисунка к каютной переборке и снова принялся за боевые упражнения.
Вжик! – и клинок приколол нос нарисованного Крузенштерна к стене. Вжик! – и опять попаданье, на сей раз в подбородок. Это неожиданно напомнило графу недавнюю проделку, учиненную во время стоянки у Маркизских островов, на сопутствующем «Надежде» шлюпе «Нева», да не с кем-нибудь, а с лицом духовного сана, отцом Гедеоном – иеромонахом посольской свиты, взятым в круиз для обращения в православную веру туземных народов.
…Гедеон был худым, угрюмым на вид и падким на хмельное священником. Говорил он мало, большей частью на проповедях, да и то таким низким и мрачным голосом, что у Толстого закрадывалось серьезное сомнение в том, что кто-то из корабельной паствы после речей сего слуги Божия становился к Господу ближе… Настоящее красноречие пробуждалось в иеромонахе пропорционально выпитому спиртному. Глядя на желчное, испитое лицо Гедеона, граф не раз ловил себя на мысли, что подобный лик скорее отпугнет дикарей, нежели привлечет их в лоно православия.
Может быть, к этим мыслям примешивалось и личное. Федор Иванович, сказать честно, не любил попов. Повинна в том оказалась религиозность его матушки – графини Анны Федоровны, вышедшей из богобоязненного рода Майковых и с детства пытавшейся привить набожность любимцу Феденьке.
Что за скука стоять этаким истуканчиком в храме, слушая непонятные песнопения и проповеди? Ни ущипнуть стоящую рядом и проливавшую слезы умиления барыню, ни показать язык толстому рыжему протоиерею, тонким бабьим голосом выводящему псалмы… Токмо крестись да бей поклоны…
Кто знает, не из тех ли малоприятных детских воспоминаний и возникло у графа желание подшутить над Гедеоном. Федор Иванович трижды приносил ему бутылки из личных, катастрофически тающих запасов, чем вызвал необычайное расположение иеромонаха. В свою очередь и граф получал интерес, глядя на картину грехопадения духовника. Происходило это всегда одинаково: Гедеон трясущимися руками откупоривал бутылку, одним махом заливал в себя половину ее содержимого. Блаженно икал. Глубоко посаженные глазки приобретали живой блеск. Он крестил свой впалый живот, потом графа. Выпивал остатки вина и впадал в прострацию, из которой выводил его лишь сигнал, зовущий к обеду.
В тот памятный день Толстой появился на «Неве» не с одной, а двумя бутылками португальского. Почтительно осклабившись, протянул их сидящему на свернутом корабельном канате Гедеону, пощипывавшему окладистую, не по фигуре, бороду и наблюдавшему за обнаженными туземками, что кружили на пирогах вокруг стоявшего на якоре шлюпа.
– Бесовские отродия… Срамота… Геенна огненная поглотит вас! Господь уже поднял свою карающую десницу… – бормотал иеромонах, не отводя в то же время блестевших, как от вина, глазок от туземок. Зрелище было такое, что Гедеон не заметил подошедшего графа.
– Примите скромный дар, отец Гедеон…
– А, это ты, сын мой. Да благословит Господь щедрость твою… – Иеромонах тут же, не обращая внимания на нижних чинов, приложился бутылке.
На сей раз Гедеон превзошел себя. То ли жаркий тропический полдень, то ли вид сластолюбивых смуглянок сделали свое дело: иеромонах не выпустил бутылку, пока на дне ее не осталось ни капли. Тут силы покинули святого отца, и он свалился бы на палубу, не поддержи его Толстой. С заботой кормилицы, принимающей на руки младенца, Федор Иванович уложил батюшку рядом с канатной бухтой.
Растопив на камбузе в железной миске заранее припасенный сургуч, граф вернулся к мирно спящему иеромонаху и, притиснув его бороду к корабельной палубе фамильной печаткой, стал ждать пробуждения.
Ждать пришлось не более четверти часа. Разбудил священника корабельный пес. Обнюхав спящего, он лизнул иеромонаха в нос, чем вызвал улыбки у собравшихся вокруг матросов.
Иеромонах приоткрыл щелки глаз и попытался встать на четвереньки. Не тут-то было! Борода, залитая сургучом, крепко держала его голову у палубы. Хохот вокруг раздался еще пуще.
– Граф, сын мой, – от испуга наполовину протрезвев, обратился Гедеон к присевшему на корточки и глядевшему с деланным участием Толстому. – Что сие значит? – Он скосил глаза на сургуч.
– Казенная печать, батюшка… Не велено ломать!
– Христос Создатель, Матушка Пресвятая Богородица, – ошалев от страха, возопил Гедеон. – Неужто и пребывать мне так до скончания века?..
– Выход есть, – наклонясь к самому уху иеромонаха, прошептал граф и сунул под нос Гедеону портняжьи ножницы.
– Господи, спаси и помилуй, срамота-то какая… – Гедеон закатил глаза и забился, как юродивый на паперти.
– Ну так что, святой отец? – голосом искусителя напомнил о себе граф.
Иеромонах только безнадежно закрыл глаза в знак согласия.
Щелк! – и окладистая борода Гедеона превратилась в куцый обрубок. Оставив большую часть былой гордости припечатанной к палубе, закрыв лицо рясой, Гедеон, под ухмылки нижних чинов, убежал в свою каюту. Вскоре же, однако, нажаловался на графа капитан-лейтенанту Лисянскому.
…Вспомнив гримасы иеромонаха и торчащую, как ведьмино помело, бороду Гедеона, Толстой расхохотался и тут же умолк, повинуясь быстрой смене настроений, присущей людям, рожденным в начале февраля. То, что было потом, действительно смеха не вызывало. Лисянский не только сам строго выговорил поручику за учиненное на его корабле, но и подробным рапортом доложил обо всем старшему морскому начальнику – Крузенштерну и главе посольской миссии Резанову.
Последний мягко пожурил Федора Ивановича за шалость, да и только. Светские манеры, усвоенные камергером двора его императорского величества еще в эпоху Екатерины Великой, не позволяли проявлять излишнюю суровость. Граф – просто юнец, не знающий, куда девать энергию молодости. Стоит ли поднимать скандал из-за пусть безобразной, но все же мальчишеской выходки?..