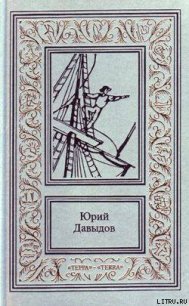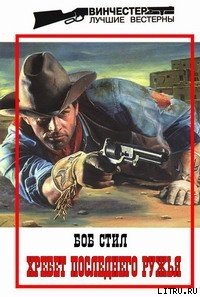Становой хребет - Сергеев Юрий Васильевич (прочитать книгу .TXT) 📗
— Сколько оленей дашь под вьюки, Стёпка?
— Однахо, дюжину олешек дам.
— Мало, ещё пару прибавь. Мне надо больше оленей, — торговался Игнатий, — для двоих много харча везти.
— Два по десять дам. Хватит?
— Уговорились.
— Лушка вас проводит, потом вернётся назад. Сам хотел с тобой кочевать, Лушка не хочет меня брать. Зачем поп ей дурной имя дал? Настоящее имя девки — Нэльки, весна — значит.
Живое имя… мох растёт, солнце светит. Лушка — плохо. Зови девку Нэльки. Большая радость от весны всем. Нэльки! Зачем отца аргишить не хочешь брать, — и лукаво засмеялся.
Детишки скоро угомонились, поснули кругом на шкурах. Мать отнесла их в чум и сама осталась там, туда же подался пьяненький Степан. Напоследок он сказал, что Егор — бояттинан, значит — хороший человек. Егор умостился на шкурах у огня и сквозь дремоту поймал обречённый вздох Игната:
— Ну чё мне с тобой делать, прямо беда… ясно дело, пойдём, Нэльки-Лушка, пойдём поглядим на реку, не убегла ли ишо вся.
Она отозвалась журчливым хохотком.
Егор приоткрыл глаза и увидел их спины, гаснущие в ночи. Внутри сосанула застарелая болячка, припомнилась который раз улыбчивая Марфутка, он натянул на себя шкуру и поплыл в видениях сна.
…Марфа раздевалась в какой-то избе при людях и шла к нему, бесстыдно потряхивая грудью, ему было совестно перед народом, он не знал, куда подевать глаза. А она уже мостилась у него под боком на нарах, толкалась и шевелилась, отдавая почему-то запахом псины.
Егор изнывал мыслями: «Господи, срамно-то как, ить люди кругом», — но не стерпел и тоже обнял её, напрягся и проснулся… Рядом лежала примостившаяся Верка, сладко позёвывая и взмахивая хвостом. Егор озлился:
— Тьфу! Ты, зараза, двигай отсель, — отпихнул собаку рукой и перевернулся на другой бок.
Сон пропал. От реки доплывали тихие голоса, басок Игнатия курчавился смехом. Где-то во тьме бродили олени, взвякивали колокольчики, шумела река на дальнем перекате.
Егор отыскивал в небе главенствующие звёзды, складывал их в причудливые узоры, голову туманили неясные вопросы к самому себе: «Зачем ты явился в этот мир? Как жить намерен? Что толкает тебя в горнило испытаний от спокойной и размеренной доли? Кто я есть?»
Никто не отвечал и не собирался это растолковывать. Нужно самому доходить своим умом. Только в одном он был уверен накрепко, что без этих светлых и трудных краёв, где почуял себя вольным и гордым, ему уже не быть.
12
Ветер притащил из-за гор мохнатую шкуру тучи. Встряхнул её с громом и светом молний и умчался куда-то. Дождь накатился валом белёсой мглы, сразу поглощая всё вокруг, захлёстывая людей и навьюченных оленей.
Путники спешно снимали поклажу, укрывали брезентовым пологом. Олени схоронились под навес елей, вздрагивая от медвежьей ярости грома и голубых всполохов страшного огня. Игнатий наскоро придавил брезент палками и тоже сунулся под ель к Егору и Луше.
С его одежды журчала вода, но в глазах горела привычная шалинка буйного восторга.
— От, ввалил он нам так ввалил! Ёшкина мама! Кабы муку не сквасить. Ясно дело, старый дурак, ить видал, что натягивает тучка, думал, обнесёт стороной, — Лушка неморгающе и любовно глядела на него и тихо улыбалась. По её щекам медленно ползли капли дождя.
Крупные и сильные струи хлестали по молодой листве на берёзах, топотали по земле, осекая поросль травы. Озорно хихикнув, Нэльки прижалась мокрым зверёнышем к Игнатию, обняла руками за крепкую шею.
— Согрей меня, амикан. Лушка совсем мокрый, как рыба…
— Тю-ю, дуреха, нашла время… не терзай вон завидками парня. Отвяжись. Чую, доиграемся мы опять с тобой до приплоду. Гос-с-споди-и-и, прости грехи мои тяжкияа… З-забубённая г-головушка-а, до чево ж ты меня-а довела-а.
Егор, отвернувшись, дёргался от смеха.
Опустошённые тучи убрались насовсем за сопки, поморосили мелкие капли и стихли. Верка деловито отряхнулась, побежала куда-то по залитой водой звериной тропе.
Птицы разом взялись переругиваться с далёким и уже нестрашным громом, деревья, как живые, встряхивались от воды, качали освежёнными ветками.
Потревоженный муравейник закипел работой, а помолодевший приискатель удало обнимал свою мокрую княжну. Пронзительно и насмешливо заорала кедровка над их головами, атаман очнулся от своих дум и погрозил сварливой птахе кулаком.
— У-у-у, курва, расхлебанила глотку. Не пожалею на тебя для Веркиной услады патрона.
Кедровка ему не поверила, взобралась повыше на дерево и пуще заголосила, объявляя окрестной тайге о приходе людей. Солнце кочевало к ночёвью, и двигаться дальше не было смысла.
Затаборились, просушили одежду, подмокшие вьюки, Верка прихватила и нагнала под выстрел раззяву-глухаря, стремительно вывернулась из кустов, высоко вспрыгивая, ища глазами упавшую птицу, и радостно свесила набок язык, придавив её передними лапками.
Где-то ещё погромыхивало, а земля уже отогрелась от холодной влаги, туманила испарениями заходящее солнце. Игнатий барином сидел в пологе, вытянутыми губами дуя на обжигающий чай, поглядывал на Лушку, теребящую в издальке глухаря, и оправдывался тихим голосом перед Егором:
— Бедовая тунгуска, прямо страсть бедовая… и тут, брат, от бабья спасу нет. Нигде от них не схоронишься, изымут на свет божий. Хват девка… Гх-м… Ты уж прощевай старого дурака.
— А мне, что за дело, видать, у ней величие духа посильней твоего, — рассмеялся Егор.
— Эт точно сказанул… Охмурила меня на преклоне годов. Да ишо сына вон привела, не знаю, — радоваться иль в прорубь головой сунуться. А ить надо радоваться, как-никак, родная кровушка сыскалась. Теперь это — самый близкий мой человек.
— Как он там без матери будет, кормить же надо?
— Ежель в меня удался, на оленьем молоке не помрёт, оно шибко пользительное. Да уж вскорости доберёмся, отправлю деваху восвояси. С ней я и про золото забуду напрочь. Кстати, золото по-эвенкийски зовётся — могун. Грозное что-то в звуках этого слова и тревожное. Могун! Как колдун, слышится мне.
Луша проворно готовила ужин. Зардевшимся от пламени лицом изредка поворачивалась к фартовщикам и одаривала их кроткой улыбкой.
Егор отворачивался с видимым равнодушием, губы расплывались в ответной улыбке. Перед сном Игнатий спровадил его поглядеть оленей, не разбрелись ли… Когда Егор вернулся, они уже мирно спали в пологе.
Он покрутился возле костра, попил остывшего чая и, не рискнув спать на сырой земле, потеснил молодых. Лушка-Нэльки ворохнулась во сне и крепко прижалась к его спине. У парня тоскующе зашлось в груди, занемело, припомнилась Марфушка.
Она и позвала его в сказочные страны сновидений. Плясали там девки в ажурных чулках, гонялся за ним офицерик со шрамом во всю щёку и огромным маузером, а ноги ватно слабли и подступал ужас…
Полную неделю они кочевали в сторону закатов. Дни становились необъёмно большие, на ночь едва притемняло, и опять вылазило молодое, умытой росой солнце, оглядывая порядок в тайге.
Связки оленей то продирались через непролазную чащобу стлаников, то петляли по безымянным долинам ручьёв, вброд переходили речушки и взбирались на крутые сопки.
Егора всё больше ворожил этот необузданный простор безлюдной земли. Часами он мог глядеть с увалов на безграничную кипень лесов, хаос вздыбленного Станового хребта на горизонте, волнистую сглаженность сопок.
Где-то далеко горела тайга, когда ветер поворачивал в их сторону, наносило костровым дымком.
Игнатий уже не раз, останавливаясь на днёвку, проверял с лотком ручьи, бил небольшие езенки — пробные шурфики и, наткнувшись на мерзлоту, безнадёжно махал рукой. Куда вился караван оленей — было ведомо только ему.
Неожиданно похолодало и выпал снег по колено. Два дня квасили его ногами, потом в день потеплело и растаяло. Появились комары. Здоровенные слепни — пауты одолевали оленей.
Верку допекали они до истерического лая. Ландышным разливом отцвела брусника. Одним утром Егор привычно собрал оленей, начал их вьючить, но Игнатий позвал сонным голосом из полога: