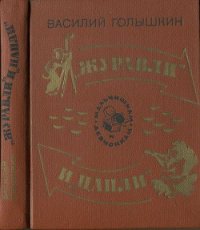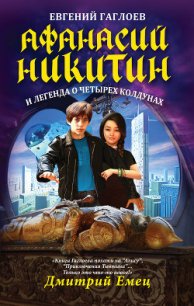Тайна римского саркофага - Кузнецов Афанасий Семенович (книга бесплатный формат TXT) 📗
Чех начал расспрашивать Алексея о его Родине, напоил водой, дал десять сигарет и на прощание сказал:
– Мы будем следить за вами, поможем бежать. Но пока нужно молчать…
И крепко пожал руку русского товарища.
– Вот только Галафати… – Офицер замолчал и грустно покачал головой.
– Где он? – тревожно спросил Алексей.
– Вы видели Коха? Так вот… Этот зверь сам взялся за Галафати. Это значит, что нашему товарищу угрожает смерть.
– И ничем нельзя помочь?
– Я пробовал… Но пока ничего не вышло. Боюсь, что Кох, эта немецкая овчарка, и обо мне уже пронюхал… Надо что-то предпринимать…
Гауптштурмфюрер СС задумался. И тут Алексей, глядя на его устало склоненную голову, подумал, как трудно, как невыносимо трудно этому смельчаку ходить каждую минуту по краю обрыва и улыбаться, вести как ни в чем не бывало разговоры с убийцами товарищей, ежесекундно держать нервы в напряжении, ничем не выдать себя…
Вновь появился тот же тюремщик. Страшно ругаясь, он погнал Алексея в камеру. А у самых дверей шепнул: «Не унывать, рус», – и с силой толкнул в спину, так что Алексей чуть не упал.
Николай подбежал к нему, стараясь поддержать, привести в чувство. Он знал, какими люди возвращаются после пытки. Но Алексей улыбнулся. В глазах светилась радость.
Он рассказал Николаю все, что с ним случилось.
Они долго сидели обнявшись, шепотом обсуждая события сегодняшнего дня. Сердца вспыхнули надеждой, которая нужна, очень нужна человеку, чтобы идти вперед, чтобы сделать все, что положено человеку на Земле… А у обоих еще столько несвершенных дел!
Они строили всевозможные планы, вспоминали прошедшее, в их положении это было так естественно. Когда у человека нет светлого настоящего, он уходит мыслями в иное время – либо в прошедшее, либо в будущее.
– Я тебе как-то рассказывал о себе, – говорил Алексей, поглаживая друга по руке, – теперь, выходит, твоя очередь…
– Ну что ж! – рассмеялся Николай. – Моя, так моя… – Он обхватил руками колено и мечтательно поднял глаза.
– Ну, война застала меня в армии, на полуострове Ханко. Служил я в двести тридцать шестом отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе. Мои друзья сделали мне там настоящую японскую татуировку: когда по утрам умывался, гравированные драконы на руках копошились, как живые. Тогда мне это нравилось, а вот сейчас… – Он взглянул на свои руки, разукрашенные тушью, и сплюнул в сторону. – Чего это я об этом?.. Словом, когда началась война, немцы пытались и с суши, и с моря овладеть полуостровом. Но мы каждый раз давали им по зубам.
Ханко был важный форпост в Балтийском море. Мы это, конечно, хорошо понимали. Сто шестьдесят пять дней наш гарнизон – небольшой, так себе – отбивал атаки фашистов. Они просто озверели. И подтягивали все новые силы. Ох, помолотили мы их… А потом по приказу Верховного командования оставили Ханко. Эх!.. Помню, когда сходили мы с полуострова, запели свою любимую: «Славное море, священный Байкал».
Первого декабря мы уже ехали в Ленинград. Не как-нибудь – на пассажирском теплоходе. Но как назло наскочили на мину. Ну вот, значит, рвануло нас… Что ж, водичка, конечно, не черноморская, но ничего не поделаешь – пришлось прыгать в воду, плыть. Однако не тут-то было. Наскочили на нас немецкие катера, стали вылавливать… Так я оказался в плену. Прямо из водички – и в плен… А осенью прошлого года привезли вот в Рим. Николай замолчал, но вдруг чему-то улыбнулся, даже хохотнул тихонечко.
– На Ханко был у меня один интересный случай. Ты слушаешь?
– Ну конечно! Рассказывай, рассказывай.
– Вызвал как-то меня к себе командир дивизиона и говорит: «Товарищ Остапенко, твои предки когда-то писали письмо турецкому султану»… – «Как же, говорю, помню!» – «Ну вот… помоги нам в одном деле. Надо написать что-нибудь в этом роде господину Маннергейму в ответ на его призыв сдаться в плен»… Алексей оживился:
– Ну и как? Написал?
– Написал!.. Правда, журналисты немного подредактировали, черт бы их побрал… Но все равно доля моей «соли» осталась. Когда-то я то письмо на память помнил, теперь, конечно, подзабылось, но все же послушай.
С усмешечкой Остапенко начал – словно бы читал:
«Его высочеству прихвостню хвоста ее светлости кобылы императора Николая, сиятельному палачу финского народа, светлейшей обер-шлюхе берлинского двора, кавалеру соснового креста барону фон Маннергейму…»
– Чуешь, как загнули мы?..
Алексей беззвучно смеялся.
После нежданного и непривычного смеха стало вдруг не то что тоскливо и не грустно даже, а как-то пусто, очень неуютно на душе. Примолк и Николай.
– Ладно, – стряхивая ненужную хандру, сказал Алексей. – Расскажи-ка, брат, что-нибудь еще.
– Что же я тебе расскажу?.. Вот сейчас балакали, смеялись, а все равно душе невесело… Понимаешь, какая штука: уже несколько дней сидим мы тут с тобой, а у меня все не выходит из головы, где я слышал про эту тюрьму?.. Вспоминал, вспоминал и вот, знаешь, сейчас вспомнил…
– Ну и где же ты слышал?
– Да все на том же нашем полуострове Ханко. Подружился я там с одним уральцем. Звали его Анатолием. Хороший был парень. Грамотный, речистый.
– Почему «был»? – перебил Кубышкин. – Убили, что ли?
Николай немного помолчал.
– Все расскажу, не перебивай… Анатолий числился у нас агитатором, и никто не звал его по имени, а называли кто «уральцем», кто «агитатором». Он не обижался.
И вот однажды рассказал он мне. «Эх, Коля, кабы не эта проклятая война, так я бы сейчас в юридическом институте лекции читал». В августе он должен был защищать кандидатскую диссертацию. И знаешь, тема какая была? Тебе ни за что не догадаться! История фашистских тюрем. Он говорил, тема здорово интересная. Тут и германская тюрьма – Моабит, румынская – Дофтана, итальянская – Режина Чели (это наша, значит, с тобой), польская – Висла, венгерская – Скала. И другие, я уж не помню. А материал по этим тюрьмам трудно было разыскивать. По крупице парень собирал.
Кому нужна их история? – может, спросишь ты. Я, например, спросил. А Анатолий и говорит: «Что ты, Николай! В юридических институтах даже преподают тюрьмоведение как отдельную дисциплину». Понял? В свое время, оказывается, проходили даже Международные тюремные конгрессы. Один из них, четвертый, что ли, организовали в конце прошлого века в Петербурге. Сам Александр Третий со своими министрами и всей царской семьей на открытии присутствовал. Во как!
И понимаешь, все чин чином устроили, даже Международную тюремную выставку. Каждая страна показывала изделия, которые изготовляли арестанты, и предметы из обстановки тюрем.
Итальянцы, скажем, представили модель одиночной камеры. Я вот сейчас подумал: а вдруг – той самой, в которой мы с тобой сейчас сидим. А?.. И была на выставке модель всей тюрьмы Реджина Чели. И изделия из этой тюрьмы: обмундирование тюремное, ботинки, скульптуры разные, резьба по дереву, мадонны.
– Неужели и мадонны делались в Реджиие Чели? – с усмешкой спросил Кубышкин.
– А что ты думаешь, – усмехнулся и Остапенко, – это, брат, превосходно уживается: пытки и молитвы, иконы и тюрьмы. Этот вот, – он ткнул в распятие Христа, – чего тут пялится?..
Ну, конечно, когда я слушал Анатолия, мне и в голову не приходило, что придется самому в тюрьме сидеть, да еще в такой знаменитой. Знал бы – побольше выспросил…
А Анатолий… Дня через три после того, как он мне рассказывал про тюрьмы, попали мы под бомбежку и погиб Анатолий. А ведь какой способный парень был! Наверняка бы стал профессором…
Под покровом ночи
Алексей и Николай установили, что Анджело Галафати сидит внизу, в отдельной камере. Пробовали перестукиваться с ним – ничего не вышло.
Они не знали, что в это самое время Пьетро Кох избивал их друга резиновой дубинкой. Рука у садиста заныла в плече, он отшвырнул дубинку и сквозь зубы процедил:
– Воды!
Неподвижного Галафати облили из ведра. Вода, стекая с тела, стала розовой. Кох приподнял голову своей жертвы за волосы: