Империя Вечности - О'Нил Энтони (лучшие бесплатные книги .TXT) 📗
— Мне кажется, ни один человек не захочет, чтобы его проглотили, — заметил Ринд, припомнив собственное напускное презрение к гипсовым колоссам Хрустального дворца.
— Чепуха, мой мальчик. Смею заверить: когда вы сами посмотрите в лицо Сфинксу — думаю, это непременно случится, причем гораздо раньше, чем вы предполагаете, — то увидите то же самое, что когда-то увидел я. То, что доступно людям, скромным от природы, но безнадежно скрыто от глаз Наполеона.
— И что же? — спросил Ринд.
Археолог улыбнулся.
— Покой и ясную безмятежность.
— Безмятежность? — повторил молодой шотландец с запинкой, так как нечасто произносил это слово.
Сэр Гарднер молча посмотрел на него.
— Скажите, мой мальчик, в вашей жизни уже появилась некая юная леди?
Тот даже вздрогнул от неожиданности.
— А что… Почему вы спрашиваете?
— Ну… такой приятный молодой человек в расцвете лет…
Отчаянно смутившись, Ринд прибегнул к отговорке, достойной школяра.
— Единственная леди в моей жизни, — пролепетал он, пытаясь придать голосу насмешливый тон, — это ее величество королева.
Сэр Гарднер выдержал короткую паузу и не менее двусмысленно вымолвил:
— Превосходный ответ.
Ночью, обдумывая этот разговор у себя в комнате, Ринд в сотый раз удивился тому, с какой легкостью позволил переключить свое внимание. И еще задумался: для чего хозяин столь усердно подчеркивает утонченные свойства его характера, особенно скромность, и почему виртуозно обходит стороной тему «французы в Египте». В сущности, у шотландца появилось двое отцов, каждый из которых, умело играя на струнах души, куда-то тянул его: У. Р. Гамильтон — властный, вечно сдержанный и сморщенный, словно мумия, и сэр Гарднер Уилкинсон — великодушный до неприличия, открытый для жизни, как его пестрый зонтик, но в то же время тщательно оберегающий личные секреты и неизвестно зачем постоянно оценивающий своего ученика. Оказавшись между ними, молодой человек отчаянно страдал оттого, что не может продвинуться хотя бы на шаг вперед. Если у них с Наполеоном и было что-нибудь общее, так это неутолимая жажда прогресса:
Эти строки сделались его личным девизом. В легком тиканье часов Ринду слышался треск реликвий, погибающих во имя очередной железной дороги, и близкий шорох шагов неотвратимой смерти. Но если Наполеон был в состоянии бездумно, с огромным размахом следовать каждому своему порыву, то молодой шотландец, будучи жертвой собственной застенчивости, лишь молча подавлял отчаяние и частые сомнения, повинуясь безжалостному гнету чувства долга и чести, пытаясь как-то воплощать в жизнь собственные планы, при этом не обманув чужих высоких ожиданий. В душе он завидовал людям вроде Гамильтона и сэра Гарднера: полные жизни, обладающие цельным характером, они в то же время куда спокойнее, почти со скукой взирали на собственные достижения. С другой стороны, оба джентльмена успели достойно завершить множество глав своей судьбы, тогда как Ринд по сей день сидел за столом, занеся перо над первой страницей, думая, откуда начать, и даже не зная, будет ли у него такая возможность.
Молодой человек вздохнул и задул свечу.
В тысяча восемьсот пятьдесят четвертом году Британский музей насчитывал более пятисот тысяч книг. Залы его библиотеки словно магнитом притягивали ученых, студентов, пропагандистов, а также разных чудаков, которых родные гнали на улицу, чтобы те не устроили в доме пожара. Правда, кроме доступных любому изданий существовала особая группа запрещенных книг, инкунабул [44]и бесценных томов, просматривать которые разрешалось лишь по специальной договоренности и к тому же под строгим надзором. Среди них нашлось немало экземпляров, к которым Ринд, прилежно радеющий о своем образовании, получил право прикасаться — но только в перчатках и с особым пиететом.
Взять, например, «Description de l'Egypte» [45]— самый заманчивый плод египетской кампании. Шедевр, над которым в Париже трудились целых двадцать лет: в десяти томах содержались тексты, еще в десяти — изысканные гравюры, а в трех последних — карты шириной в ярд. В двадцатых годах девятнадцатого столетия была выпущена относительно более доступная версия этого издания, предназначавшегося поначалу исключительно для коронованных особ. Для того чтобы это сокровище появилось на свет, потребовалось в корне преобразовать устройство цветных печатных прессов, поменять производство и гравировальных машин, и веленевой бумаги. Это была настоящая Французская революция в книгопечатании.
Снова и снова Ринд любовался роскошными страницами, на которых чернилами самых сочных оттенков со множеством мельчайших подробностей изображались монументы, руины, острова, торговые суда с матросами и купцами, флора и фауна Египта. Пожалуй, чужая земля никогда еще так полно не умещалась в тисненых кожаных переплетах.
— До чего изумительная, дотошная аккуратность! — как-то раз восхитился он, склоняясь над очередным томом в алькове Салона рукописей.
— Ну, аккуратность — это чересчур сильно сказано, — возразил Гамильтон у него за плечом.
— Наверное, но с другой стороны… Что? — вскинул голову Ринд. — Хотите сказать, здесь могут быть неточности?
— Целая масса искажений. Разумеется, ведь граверы трудились в тысячах миль от оригиналов, так что ошибки вполне простительны… в большинстве случаев.
— А в остальных случаях?
Гамильтон ответил едва уловимой улыбкой.
— Первые тома издавались под покровительством Бонапарта и по завершении были в торжественной обстановке преподнесены ему лично. Но были случаи, когда он попросту не мог удержаться и вмешивался в работу, словно курица, которая квохчет над яйцом. Знаете, что сказал Наполеон, увидев на иллюстрациях царский чертог Великой пирамиды?
Ринд нахмурил лоб.
— Не помню таких иллюстраций.
— Вот именно. Все потому, что Бонапарт разругал художников в пух и прах. Он заявил — нет, он был твердо убежден, что в царском чертоге были звезды.
— Звезды? Внутри Великой пирамиды? Никогда об этом не слышал.
— Разумеется, юноша: их там нет. Однако издатели были в таком замешательстве, что предпочли совсем обойтись без иллюстраций.
Ринд задумался.
— Значит, царский чертог… на самом деле может оказаться чертогом вечности? Легендарным чертогом вечности?
— В девятом веке нашей эры калиф аль-Мамун именно так и считал. Но когда наконец он взломал Великую пирамиду и пробился внутрь, то обнаружил один лишь просторный склеп длиной примерно в тридцать пять футов, голые стены из полированного гранита и пустой саркофаг, который гудел, словно колокол. Вот и все. То же самое видели Денон, я сам, да и сэр Гарднер. Чертог замечателен разве что полным отсутствием излишеств. Но, даже невзирая на звезды, я убежден: Бонапарту открылось не более нашего. И никакого чертога вечности.
— Тогда для чего, — спросил молодой шотландец, пожав плечами, — для чего вообще нужен был этот визит?
— Думаю, это сооружение, подобно храму Амона-Ра в Сиве, просто как нельзя лучше подходит для бесед о сокровенном. Похоже, есть некая очень серьезная причина, и тайны чертога вечности нуждаются в том, чтобы говорить о них, не раскрывая его настоящего расположения. Даже если его придется прятать от глаз великих владык. Вы слыхали когда-нибудь об аль-Джахизе Пучеглазом? — С этими словами Гамильтон взял увесистую кожаную папку и достал оттуда исписанный от руки листок. — Этот ученый, философ был современником калифа аль-Мамуна, написавшим более трехсот трудов, дошедших до наших дней. Здесь перевод отрывка из его малоизвестного текста, «Книги далеких чудес».
43
Г. Лонгфелло «Псалом жизни», пер. И. Бунина.
44
Инкунабулы (от лат. incunabula — колыбель) — печатные издания в Европе, вышедшие с момента изобретения книгопечатания (сер. XV в.) до 1 января 1501 г. Известно около 40 тыс. названий инкунабул (около 500 тыс. экземпляров).
45
«Описание Египта» (фр.).
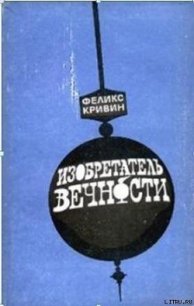

![Империя страха [Империя вампиров] - Стэблфорд Брайан Майкл (книги бесплатно без регистрации полные txt) 📗](/uploads/posts/books/24067/24067.jpg)
