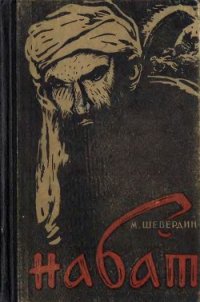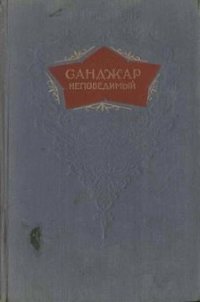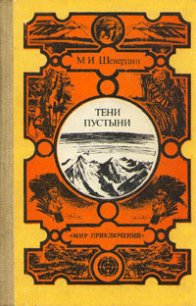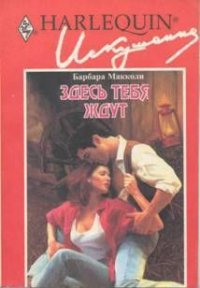Набат. Книга первая: Паутина - Шевердин Михаил Иванович (читать полные книги онлайн бесплатно .txt) 📗
И назир Рауф Нукрат принялся расписывать доблесть и мужество каких-то писарей (служивших в канцелярии кази-калана — верховного судьи Бухары во времена эмира), якобы вставших во время восстания 1920 года на сторону Советов…
Очень заботил Алексея Панфиловича Гриневича вопрос о Файзи Сами. Даже в дни, когда и минуты не оставалось свободной из за всяких штабных дел, сводок, донесений, снабжения конского состава фуражом, доставки патронов, разбора операций, нет-нет да и всплывало в памяти имя Файзи. Машинально твердил его про себя. Ему казалось порой, что он одержим каким-то наваждением. Едва он закрывал глаза — и перед ним вставало лицо, волевое, энергичное, с поджатыми губами, черными усами и горящими глазами. Лицо напряженно улыбалось и требовало… чего именно требовало — неясно.
…Алексей Панфилович Гриневич говорил себе: «Нехорошо. Человек столько сделал, и все его забыли. И ты, Алексей, забыл». Наутро, явившись на службу в полк, Гриневич первым делом заглядывал в Особый отдел к Пантелеймону Кондратьевичу.
— Ну, брат? Как дела, брат?
— Опять ты, брат, со своим Файзи.
Видя по тону ответа, что Пантелеймон Кондратьевич ничего так и не узнал, Гриневич угощал его махоркой и, уходя, бросал:
— Н-да, с такими, брат, работничками, как твои, не распрыгаешься. Не могут в Бухаре такого человека, как Файзи, разыскать. Ничего, ничего, критика полезна.
Файзи Сами, по прозвищу «Искусные руки» исчез в полном смысле слова. В Бухаре его давно уже никто не видел.
Нашли и опросили всех освобожденных в достопамятные события из знаменитого, еще по описаниям Вамбери, зиндана в эмирском арке. Многие в Бухаре знали Файзи, но заверили, что в тюрьме он не сидел, а столь известного человека, конечно, не заметить они не могли. Да и эмирские люди, да и сам эмир подняли бы невероятный шум, попадись им в лапы непреклонный и беспощадный Файзи, верный ученик Ленина, как он называл себя с гордостью. О своем торжестве раструбили бы палачи по всему государству, прежде чем отправить революционера на площадь казней. Не знал ничего об участи Файзи и сам мирза — писарь верховного судьи (кази-калана), уцелевший во время переворота и после него только потому, что за него поручился сам назир внутренних дел Рауф Нукрат. Мирза великолепно помнил дело Файзи (в канцелярию кази-калана немало поступало секретных донесений о нем), но сказать, что с ним сталось, не мог.
Пантелеймон Кондратьевич умудрился даже извлечь, как он говорил, «за ушко да на солнышко» главного надсмотрщика и палача эмирского арка Джуманияза Дубину, оказавшегося необыкновенно болтливым, общительным и с виду добродушным толстяком.
С подкупающей наивностью Джуманияз Дубина рассказал о ямах-клоповниках, о задушенных и зарезанных, о замученных. «К нам тащили всех смутьянов. Не успеют человека приволочь, сейчас же следует высочайшее повеление: такому-то и такому-то безбожнику и бунтовщику дать некоторое количество палок. Ну, работали палачи до седьмого пота. Меньше чем семьдесят пять ударов никому не давали, а семьдесят палок и слоновья спина не выдержит. Или еще плеть — дурра… Ею опытный палач десятью ударами мясо с ребер снимал. Избитых, с клочьями мяса на спине уволакивали еле дышащих в яму. Ну, а Файзи Сами не было. Ждали мы все, что поймают его, приведут. Рукава засучив, ждали. Каждому лестно свое искусство на спине такого знаменитого человека испытать, посмотреть, как такой герой себя покажет, да заставить особо искусными ударами стоны и слезы извлечь, но не вышло… не привели к нам Файзи Сами в зиндан».
Приходилось верить тому, что говорил Дубина, понимавший, что вилять да скрывать ему нечего. Участь он свою знал и относился к постигшей его судьбе с поистине восточным равнодушием. Он сообщил так много важных подробностей, что, как выражался Пантелеймон Кондратьевич, «такую сволочь полезную и расстреливать жалко». На одно мгновение в показаниях Джуманияза Дубины появился проблеск.
«Раз привели к нам четырех юношей, хорошеньких, розовокожих, розоволиких, — рассказывал, рассевшись на стуле и попивая чай, точно он сидел не в Особом отделе, а в чайхане, палач, — таких в своем гареме бачей и эмир не имел. Думаю: „Зачем? Что случилось? Неужто эмир с мальчишками воюет?“ Так нет. Оказывается, к нам притащили не бачей, а революционеров. Юноши-то газеты вздумали читать ташкентские. Вот их и поймали. Поймали, значит, — и к нам: „Пожалуйте, заходите!“ Приготовили палачи плети. „Эх, думаю, таким прелестным юношам только на шелковых одеялах нежиться. Не выдержат их лилейные спинки и по двадцати ударов“. Но нет, прибегает гулям из кази-каланской канцелярии: „Эмир жалует!“ Пришел его священное величество эмир Сеид Алимхан, посмотрел на юношей, посмотрел, покраснел, аж пар из носу у него пошел, и приказал: „Закопать“. Спрашиваем: „Прикажете, ваше величество, „коврик крови“ расстелить и прирезать?“ — „Нет, говорит, так закопайте. Живьем!“ Ну и закопали, нежных, кипарисостанных. Закопали живыми на глазах его величества эмира. Не плакали, не просили юноши пощады. Мучились они. Да один мне успел шепнуть: „Скажи на базаре народу: Рустам, сын Файзи Сами, умер как большевик…“ Ну конечно, я не сказал».
Ну и Джуманияз Дубина больше ничего не знал и не мог сказать о революционере Файзи Сами.
Побывал Пантелеймон Кондратьевич вместе с Гриневичем на дворцовом холме в арке. Все так же болтая, Джуманияз Дубина провел командиров в глинобитный замок. Все здесь носило следы разрушения и запустения. «Вот, смотрите, уважаемые, — бормотал Джуманияз Дубина. — Здесь, в маленькой комнате, сидели мы — шесть человек. Все мы были помощниками самого миргазаба — господина гнева, начальника зиндана. А тут сидели те, кто не мог уплатить великому эмиру налогов. Это место для почтенных людей — баев и торговцев. Их жизнь в зиндане проходила ничего: сиди под навесом да пей чай, пока друзья и родственники собирают деньги. Вот тут в яме. — И Джуманияз Дубина показал яму. — Сюда бросали преступников из тех, кто победнее, у кого в мошне пусто. Ну конечно, и тех, кто шел против эмира… Тут в яме не очень им хорошо было. Скажем, их шашлыком не кормили».
— Ну, мы не экскурсанты! — мрачно сказал Пантелеймон Кондратьевич. — Веди дальше!
Но и дальнейший осмотр застенков эмирского дворца ничего не дал нового.
В обхане — личном застенке эмира, где казнили революционеров и важных преступников, еще остались на стенах темные пятна — следы крови. Пол же весь был вообще черный, маслянистый.
С улыбочкой Джуманияз Дубина показал предупредительно место, где закопали юношей.
— Понимаете, достопочтенные хакимы, — болтал неутомимо Джуманияз Дубина, — когда их клали связанными, эмир сказал: «Подымите выше им головы, пусть наглотаются побольше земли!» Ну, один наш взял и вставил им в рот палочки.
— Замолчи! — крикнул Пантелеймон Кондратьевич.
В полной тишине раскопали могилу юных революционеров. Останки их перенесли на коммунистическое кладбище и похоронили при огромном стечении народа, с соблюдением воинских почестей…
— Вы имели желание узнать о Файзи Сами, по прозвищу «Искусные руки»? — спросил словно невзначай назир Рауф Нукрат в разговоре с Гриневичем, когда они встретились в приемной председателя совета назиров несколько дней спустя после первой беседы. Говорили они оба очень любезно о малозначащих вещах, о здоровье, о погоде. Собравшийся уже отойти от назира Алексей Панфилович мгновенно загорелся;
— Где он? Что с ним?
Вздохнув, Рауф Нукрат многозначительно вскинул брови:
— Файзи Сами, по прозвищу «Искусные руки», жив, но… к сожалению, он, как бы выразиться, отошел от революционной деятельности.
В голосе, в странной улыбочке назира чувствовалось что-то недосказанное и в то же время многозначительное, и Гриневич, сам не зная почему, обозлился.
— Где Файзи? В Бухаре? — почти грубо спросил он.
— Вы всегда нас ругали, что де у вас за назират внутренних дел, если не можете человека в Бухаре найти. А мы… нашли. Только он… гм-гм… плох, совсем плох… живой мертвец, долго не жить ему.