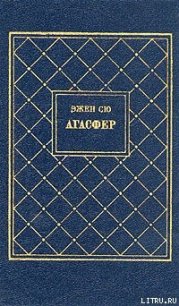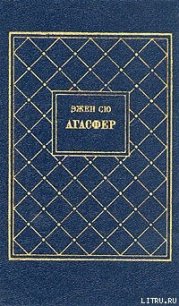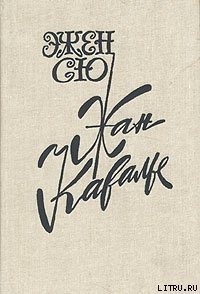Агасфер. Том 3 - Сю Эжен Мари Жозеф (читаем бесплатно книги полностью txt) 📗
И, упав опять на спину, вверх лицом, искаженным дьявольским отчаянием, как у осужденного на вечные муки, умирающий повторял:
— Никого… Никого…
И вдруг его пылающие яростью глаза встретились с ясными голубыми глазами Габриеля, и он увидал, что последний стал на колени и, склонившись над ним, проговорил ласково и сердечно:
— Вот и я, отец мой… я пришел помочь вам, если возможно… а если Господь призывает вас к Себе, то помолиться за вас…
— Габриель! — прошептал еле слышно Роден. — Простите… зло… которое я вам причинил! Сжальтесь… не покидайте меня… не…
Роден не мог закончить… Он привстал было немного, но опять вскрикнул и снова упал, недвижим…
Этим вечером в газетах было напечатано:
«Холера в Париже… Первый случай отмечен сегодня днем в половине четвертого во дворце княгини де Сен-Дизье на Вавилонской улице».
4. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СОБОРОМ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ
Прошла неделя с того дня, как Роден заболел холерой. Опустошительная работа эпидемии день ото дня все усиливалась.
Страшные дни! Париж, еще недавно такой веселый, облекся в траур. А солнце никогда, кажется, не блистало так ярко, небо никогда не было таким ясным и синим. Странный и таинственный контраст представляли эта ясность и спокойствие природы с ужасами опустошения, производимого смертоносным бичом. Под беспечным светом солнца еще заметнее выступ-ал тоскливый страх. Все дрожали — кто за себя, кто за близких. На всех лицах виднелось какое-то беспокойное, удивленное, лихорадочное выражение. Все куда-то торопились, точно думая, что быстрым шагом можно убежать от опасности, и всякий в беспокойстве спешил скорее к себе домой, потому что нередко, уходя, там оставляли жизнь, здоровье и счастье, а два часа спустя находили уже смерть, агонию и отчаяние. Каждую минуту в глаза бросалось нечто странное и страшное: по улицам двигались телеги, симметрично нагруженные гробами; они останавливались у ворот, люди, одетые в серое с черным, ждали, протянув руки, и им передавали один, два, три, а то и четыре гроба из одного дома. Иногда запас гробов заканчивался, и многие из умерших на улице оставались необслуженными.
Чуть ли не во всех домах слышался оглушительный стук молотков. То заколачивали гробы. И столько было работы, что иногда руки заколачивающих опускались в изнеможении. Тогда слышны были стоны, крики отчаяния, проклятия. Это черные с серым люди получали новую жертву, и гробы наполнялись, и днем и ночью заколачивались их крышки, но больше днем, чем ночью. Потому что с вечера вместо похоронных дрог, которых не хватало, за гробами являлись импровизированные погребальные экипажи: телеги, фургоны для мебели, тележки, фиакры, кареты — все служило для перевозки страшной клади. Они встречались на улице, нагруженные доверху пустыми гробами, а потом отвозили вместо пустых гробов гробы с покойниками.
Окна домов к вечеру загорались ярким светом и часто сияли до утра. Был сезон балов, и можно было принять это за яркое освещение веселых ночей праздника; между тем горели не стеариновые, а восковые свечи, и похоронное пение заменяло веселый бальный шум. На улицах вместо шутовских прозрачных вывесок, присущих лавкам с маскарадными костюмами, качались кроваво-красные фонари с черными надписями: «ПОМОЩЬ ЗАБОЛЕВШИМ ХОЛЕРОЙ».
Но где был настоящий праздник… особенно ночью — так это на кладбищах… Они стали местом разврата… Всегда немые и молчаливые среди ночной тишины, когда слышен только шелест кипарисов, колеблемых ветром, они… до того пустынные, что даже человеческие шаги не осмеливались нарушить мертвого покоя… сделались вдруг оживленными, шумными, сверкающими всю ночь при свете многочисленных огней. Дымный свет факелов бросал багровые отблески на темную зелень елей и на белые камни памятников, а множество могильщиков, весело насвистывая и напевая, копали могилы.
Эта тяжелая и опасная работа оплачивалась теперь на вес золота. Эти люди были так необходимы, что следовало за ними ухаживать. Они пили часто… и много… пели без устали и громко… находя в этом поддержку сил и бодрости духа, могучих помощников при подобной работе. Если некоторые из них не могли докончить вырытой могилы, услужливые товарищи кончали работу за них, дружески погребая их в той же могиле.
К веселым напевам могильщиков присоединялись отдаленные крики и песни. Около кладбища появилось множество кабаков, и возницы, доставив, как они цинично выражались, своих клиентов по адресу, пировали и веселились, как важные господа, с карманами, полными золота после дорого оплачиваемой работы… и заря часто заставала их со стаканом в руке и шуткой на устах. Странное дело: между этими людьми, работавшими в самом центре болезни, смертность была ничтожна.
Зато в темных, зловонных кварталах, где среди нездоровой атмосферы жили бедняки, истощенные страшными лишениями и совершенно готовые для холеры, как тогда говорили, — там уже речь шла не об отдельных лицах; в два-три часа уничтожалась целая семья. Иногда, впрочем, судьба проявляла необыкновенное милосердие, оставляя в холодной пустой комнате одного или двух младенцев, тогда как отец, мать, сестра, брат были увезены на кладбище. Частенько приходилось заколачивать эти дома, бедные ульи усердных тружеников, опустошенные бичом холеры всего за один день, начиная с подвала, в котором по обыкновению спали на соломе маленькие трубочисты, до мансард, где на каменном полу, голодные и полуголые, скорчившись, жались бедняки, лишенные хлеба и работы.
Из всех районов Парижа во время холеры всего ужаснее и страшнее казалась старая часть города, Сите, а самые жуткие сцены происходили здесь на площади перед собором Парижской Богоматери, мимо которого проносили в больницу всех заболевших с соседних улиц.
У холеры было не одно, но тысяча лиц… Через неделю после заболевания Родена на паперти собора происходил ряд сцен, где ужасное сменялось фантастическим. Вместо улицы Арколь, которая теперь ведет прямо к площади, тогда там был грязный, как все улицы Сите, переулок, заканчивавшийся темным полуразрушенным сводом. Когда выходили на площадь, с одной стороны высился портал громадного собора, а с другой возвышались здания больницы. Дальше виднелся парапет соборной набережной.
На потемневшей облупившейся стене свода можно было прочесть только что приклеенную листовку note 4:
«Мщение!.. Мщение!.. Рабочих, попадающих в больницы, там отравляют, так как находят, что больных слишком много. Каждую ночь по Сене спускают барки с трупами. Мщение!.. Смерть убийцам народа!»
Два человека, тщательно завернутые в плащи и полускрытые в тени, с любопытством прислушивались к разговорам, становившимся все более и более грозными, в громадной толпе, шумно скоплявшейся у собора.
Вскоре до них долетели крики: «Смерть врачам!.. Мщение!»
— Листовки делают свое дело, — сказал один из них. — Порох готов вспыхнуть… Раз толпа одуреет… ее можно натравить на кого угодно…
— Посмотри-ка, — спросил второй, — видишь ли ты того Геркулеса, выше на целую голову всех этих каналий? Не тот ли это бешеный предводитель шайки, которая разнесла фабрику Гарди?
— Да… это он! Я его узнаю… Всюду, где затевается какая-нибудь свалка, обязательно встретишь этого негодяя!
— Однако нечего стоять здесь под сводом: уж очень продувает… А я, хотя пальто у меня и подбито фланелью…
— Ты прав, ведь эта холера — чертовски грубая шутка! Впрочем, здесь все готово, а в квартале Сент-Антуан тоже зарождается настоящий бунт. Словом, везде жарко, и святое дело нашей церкви восторжествует над революционным безверием… Идем к отцу д'Эгриньи.
— А где мы его найдем?
— Неподалеку… идем!
Они исчезли.
Солнце, склонившееся к закату, освещало своими золотыми лучами потемневшие скульптурные украшения портала собора и его высокие башни, вырисовывавшиеся на ясном голубом небе, с которого сильный северо-западный ветер угонял малейшее облако.
Note4
Известно, что подобные листовки были во множестве расклеены по городу во время холеры и приписывались поочередно различным партиям.