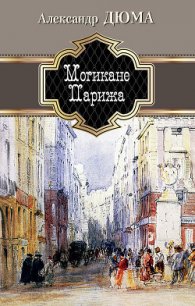Парижские могикане. Том 2 - Дюма Александр (бесплатные полные книги .txt) 📗
Но напрасно: еще за неделю до представления все билеты были проданы, и если бы зал мог вместить еще тридцать тысяч человек, было бы то же самое. Большое разочарование ожидало тех, кто, не поужинав, приехал в вечерних туалетах из Майдлинга, Хитцинга, Баумгартена, Бригитте — нау, Штадиау и других мест, расположенных на пять льё кругом: без билетов, купленных заранее, в театр никто не мог попасть.
Когда по рядам собравшихся на площади Парадов пронеслась новость о том, что все билеты давно проданы, толпа от досады, возмущения, злости закричала так, что стало слышно в Пратере. Нет сомнений в том, что разбушевавшиеся люди были готовы на крайность, но в эту минуту подъехавшие дворцовые экипажи остановились перед театром и, подобно плотине, заставили эту людскую реку вернуться в свое русло.
Толпа — мы имеем в виду прежде всего австрийскую толпу — никогда по-настоящему не кипит злобой: ей лишь бы покричать! Но раз присутствие императорской семьи не позволяло толпе изрыгнуть ругательства, она вознаградила себя криками «Да здравствует император!», а вместо театрального представления довольствовалась, подобно живописно-поэтической памяти Рюи Блазу, созерцанием того, как из экипажей выходили следом за его величеством принцессы, эрцгерцогини, графини.
Сколь это ни захватывающе, мы все же предпочитаем встретить именитых гостей, удобно устроившись в театральном кресле: наше звание драматурга, которое мы называем при входе в театр, дает нам право проникнуть туда без билета; недалеко от дверей стоит огромная серебряная чаша, куда избранная публика опускает подношения, предназначенные танцовщице, ведь это ее бенефис.
Зрительный зал Венского императорского театра в обыкновенные дни не поражал воображения, зато в тот вечер он радовал глаз необычайным убранством. Казалось, вы попали в какой-нибудь арабский дворец, где все переливается, сверкает, поет, дышит — бриллианты, жемчуга, кружева, женщины и цветы. В какую сторону ни взглянешь, повсюду напудренные лица, оголенные плечи — ни строгого мужского лица, ни черного фрака; это были цветущие поляны без мрачных древесных стволов, и можно было подумать, что какое-то невидимое божество взялось собрать воедино все, что было прекрасного в старом мире, и создать новый.
Императорская ложа располагалась справа от авансцены и состояла из трех лож, которые можно было разъединить или, наоборот, соединить в одну — в зависимости от желания высочайших особ. Спереди в этой ложе сидели десять дам, все молодые, все хорошенькие, все светловолосые, все в кружевных платьях; грудь и прическа каждой их них были убраны цветами, среди которых, как капли росы, поблескивали бриллианты. Десять женщин — или скорее девушек, потому что самой старшей не было еще двадцати пяти лет, — можно было принять за сестер: так они походили одна на другую грацией, свежестью, прелестью, будто олицетворяя собой первые майские дни.
Напротив императорской ложи (то есть слева от авансцены) располагалась другая цветочная корзина, в которой были собраны семь недавно распустившихся бутонов новой ветви баварского генеалогического древа: принцессы Йозефа, Евгения, Амелия, Елизавета, Фредерика, Луиза и Мария.
Ложи, прилегавшие к австрийской императорской и баварской королевской ложам, напоминали геральдический лес, где смешались генеалогические ветви всех принцев Гессенских: Гессен-Дармштадты, Гессен-Гомбурги, Гессен-Рейнфельды, Гессен-Ротенбурги, Гессен-Кассели, Гессен-Крейцберги, Гессен-Филипшталь, Гессен-Баркфельды; там были принцессы Ниддская, Гогенлоэ, Вильгельмина Баденская и юные принцессы Берта и Амелия — едва заметные бутоны в этом роскошном букете.
Затем следовали ложи Виттенбергов, Штутгартов, Нейштадтов, Монбельярнов, Саксов, Бранденбургов, Баденов, Брауншвейгов, Мекленбургов, Шверинов, Ангальтов; принцесс Марианны и Генриетты, юной принцессы Терезии из королевской ветви Нассау.
Но все внимание зрителей было сосредоточено не на австрийской императорской ложе, не на баварской королевской, не на какой-либо из других лож, развернувшихся над партером, словно оживший герб Германии. Не интересовали публику ни бриллиантовые лучившиеся эгреты, ни благоухавшие венки цветов, ни коралловые уста, открывавшие в улыбке безупречные зубки, — нет!
Все взгляды были прикованы к ложе, расположенной прямо против сцены; обычно она предназначалась для адъютантов императора; у нас ей соответствует самая середина бельэтажа. Необычность и красота тех, кто сидел в ней, вызывали у присутствовавших восхищение, граничившее с воодушевлением. Именно эта ложа придавала залу сходство с восточным дворцом (о чем мы уже упомянули) и заставляла невольно вспомнить о «Тысяче и одной ночи».
Вообразите: красивый черноусый и чернобородый индиец лет сорока пяти — сорока восьми с веером в руке, закутанный в белый кашемир, расшитый жемчугом и золотом; вокруг шеи — газовый шарф, сквозь который, как звезды сквозь облако, поблескивают дорогие камни; на голове — парчовый тюрбан с изумрудными павлиньими перьями, скрепленными на лбу огромным бриллиантом величиной с голубиное яйцо. Судя по гордому взгляду, его можно было принять за независимого раджу из Богилкунда или Бунделкунда, а по богатству его одеяния — за духа алмазных копей Паннаха.
Раз уж мы взялись описывать делийского или лахорского гостя, да позволено нам будет употребить сравнение в духе Востока. Итак, индийца окружали, словно звезды луну, четыре индианки с подведенными черным карандашом глазами и подкрашенными шафраном щеками; самой старшей было не более пятнадцати лет; они были закутаны в газ и одеты в белоснежный бухарский кашемир; их глаза так и сияли в освещенном тысячью свечей зале.
Позади раджи — так все называли иноземца — стояло шестеро молодых индийцев в одеяниях, расшитых зеленым, голубым и оранжевым шелком того яркого и теплого оттенка, словно вобравшего в себя солнце, которыми богата палитра Индии: кажется, сам великий Веронезе окунал в нее свою кисть.
Наконец, в самой глубине огромной ложи, где находилась служебная комната, застыли в неподвижности восемь слуг с огромными бородами и в длинных белых перкалевых одеяниях, в алых с золотом тюрбанах.
Один из них исполнял при радже обязанности глашатая; он именовался «чупараси» (по названию длинной красной перевязи, проходившей через правое плечо к левому бедру); на ней висела большая золотая пластинка с выгравированными на персидском языке именем, титулами и званиями хозяина.
Другие были делийскими «харкарами», один — мадрасский «тамул» и еще один — бенаресский «пандит», что соответствует нашим камергеру и янычару.
Посреди зрительного зала, блиставшего белизной кружев, и платьев, подобно тому как сверкает на солнце снег, эта индийская ложа, сияющая и яркая, напоминала зеленый оазис на одном из заснеженных гималайских плато. Зрители были ослеплены великолепием заморских гостей; но едва прикрыв глаза, каждый представлял, как перед ним разворачивается панорама всех эти индийских городов, одни названия которых производят на нас такое же впечатление, как сказка или песня: Сазерам, Бенарес, Мирзапур, Каллингер, Кальпу, Агра, Биндрабунд, Мутра, Дели, Лахор, Кашмир. Перед мысленным взором проплывали дворцы, надгробия, мечети, пагоды, беседки, каскады — все чудеса древнеиндийской архитектуры; вы словно купались в ароматах клубники и диких абрикосов; вас обволакивали клубы душистого дыма, поднимавшиеся от подожженных горцами кедровых ветвей на плоскогорьях Джавахира, и с заснеженных вершин, с потонувших в заоблачной дымке пиков вам открывались зеленеющие тибетские равнины, где, как говорят поэты, никогда не бывает дождя, — одним словом, вы забывали обо всем на свете: о театре, о времени, об императоре, о городе, о Европе; вы чувствовали, как у вас за спиной вот-вот вырастут крылья и вы улетите в благословенную землю, посылавшую вам изумительные видения!
Посреди этого индийского города в миниатюре, в первом ряду описываемой нами ложи, по правую руку от индийца, казавшегося принцем — так все вокруг него было по-азиатски и по-королевски роскошно, — сидел господин, о котором мы еще не успели ничего сказать.