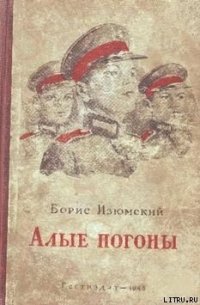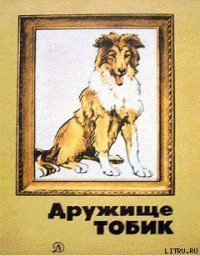Тимофей с Холопьей улицы - Изюмский Борис Васильевич (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений .TXT) 📗
Откуда-то вылез, весь в паутине и пыли, Онаний, стал рассказывать молодому господину, как потащили к реке топить его отца, а матушку не тронули, и она схоронилась у соседей; как все Нездины холопы, кроме него, Онания, попрятались, а иные вместе с татями подались в город.
Лаврентий вошел в гридню отца. Среди разорванных долговых берест увидал одну, уцелевшую, поднял ее с пола:
«Село Овсеево – 60 белок; Мохово – 33; Васильево – 40, полоть мяса, солод. Гришка Екуев – 3 куницы; Фока – 6 белок. Купил у Филиппа росомаху, а у Есипа пять лис…»
Лаврентий спрятал расписку – пригодится. Радостно подумал: «Теперь я владелец всего… Должность отца перейдет. Главное – поживу как любо».
Отца нисколько не было жаль, при жизни его чувствовал презрение к себе и платил за то страхом и тайной неприязнью. Отец говорил с ним редко, нехотя, с пренебрежением цедя сквозь зубы.
«Ольге еще подарок сделаю, – промелькнула мысль, и Лаврентий улыбнулся: – Не пробраться ль к ней дворами? Тимофей-то сидит, да и мне там безопасней». О том, что Тимофея схватили, слышал на улице.
Невольно вспомнил совместные с Тимофеем детские игры, бой при Отепя, заступничество Тимофея в ладье, и что-то, похожее на укор совести, шевельнулось у него в душе.
Лаврентию стало жаль Тимофея, захотелось помочь ему в беде. Но эти мимолетные чувства, скорее навеянные воспоминаниями, чем добротой сердца, вытеснил голос отца. «Всяк человек – ложь», – произнес он, и Лаврентий даже вздрогнул, оглянулся. Нет, он был один.
«А я чем лучше других? – мысленно успокоил себя Лаврентий. – Какое мне дело до Тимофея, до всех на свете? Лишь бы мне хорошо было».
Лаврентий заторопился, достал из потайного шкафа в стене отцовской гридни ларчик с драгоценностями (боялся оставить его здесь: «Еще возвратятся»), окутал тряпьем. «От Ольги, как стемнеет, пойду в сад владычный, закопаю там ларь на время». За пазуху он сунул материнское золотое оплечье. Подумал о Тимофее: «Пусть посидит. Когда выпустят, я ему денег дам. Небось обрадуется».
А толпы, как весенние реки в Ильмень, все стекались теперь на Торговую площадь.
Валом валили бронники, мостники, ладейники, каменосечцы, воскобойники, тесляры.
Без устали звали сполошные колокола. Вооруженные острогами и топорами, прибежали смерды из пригорода: с деревни Горки, из сел Лисичьего, Медведево, с Черного Бора, из-под Нередицкого монастыря, с Березовского погоста.
Мятежные стяги, сбирая люд, заколыхались над площадью.
Ракомские смерды, прежде чем уйти в город, порешили злобного своего старосту, принесли его голову в мешке.
Простолюдины, с которых даньщики брали куны, поборы белками и мукой, которых то и дело заставляли безвозмездно возить что придется, кинулись на площадь искать правду.
Общинник бежал рядом с кузнецом и плотником. Поднялась встань народная – люд меньший пошел против больших!
А на дворе стояло семь погод: сеяло, веяло, крутило, мутило, рвало, то сверху лило, то снизу мело. Не поймешь – зима ли, весна ли, осень? Дважды лед на Волхове трогался и снова застывал.
…Владыка приказал собрать на Софийское вече именитых людей и свой полк. С помоста уже кричал тысяцкий Милонег, и на худой его шее бились набухшие ненавистью жилы:
– Холоп пошел на господина! Поодиночке крамольники всех нас передушат. Чернь усмирит только меч!
В Милонега полетело несколько шапок с каменьями, но гильщиков здесь же быстро скрутили.
До Тимофея доносились какие-то неясные крики, однако он не мог понять, что происходит.
«Молю тя, господи, – шептал он истово, – молю: заступись, накажи беззаконников, сбирающих богатство! Неужто может кривда правду осилить?»
Но молитва не приносила облегчения, невольно приходили злые мысли: «Может, может, коли неправедные правители сотворяют лютые обиды над меньшими!»
Он вспомнил все то, что слышал на тайном совете, перед его глазами встали должник, которого тащили по улице на расправу, женщина, покорно лежащая на снегу, и он с новой силой обратился к богу: «Осуди, господи, богатых за их великие неправды, воздай месть на Страшном и справедливом суде твоем!»
Словно в ответ на этот страстный призыв заскрежетал засов дверей, и на пороге, загораживая свет, выросла огромная фигура.
– Выходи, голуба! – прорычал кто-то и захохотал.
Тимофей поднялся. Перед ним стоял, широко расставив корчаги ног, палач владыки – одноглазый Дедята Нечистый.
Тимофея повели владычным двором мимо свечной мастерской, и сердце его сжалось от страшного предчувствия: не в Чертову ли башню ведут, где (об этом новгородцы говорили шепотом) пол усеян черепами и костями загубленных?
Долго шли каким-то подземным ходом, пока не очутились у судебной избы – Одрины, что уединенно стояла в дальнем углу двора, окруженная бревенчатым забором.
Над дверью Одрины написан лик спасителя. Он держал в руках книгу, открытую на словах: «Не на лице зряще судите сынове человечестии, но праведен суд судите, им же бо судом судите – судится и вам».
Тимофей переступил порог Одрины.
За длинным столом, покрытым темным сукном, сидел сам владыка, рядом с ним – подслеповатый дьяк, а сбоку зачинивал лебединое перо молодой быстроглазый подьячий с едва пробивающимися светлыми усиками над верхней губой.
Через окна в толстых переплетах свет почти не проникал.
– Дело твое, богоотступное, дерзостное, решать будем, – тихо произнес владыка, не поднимая глаз от берестяных листов, что лежали возле его пухлых пальцев на столе.
Тимофей похолодел, узнав свои записи.
НЕЖДАННЫЙ ДРУГ
Очнулся Кулотка оттого, что чьи-то проворные, заботливые руки растирали его тело. Он лежал в землянке на оленьей шкуре. Сквозь окна со вставленными тонкими льдинками пробивалась сероватая мгла. Над Кулоткой склонилось удивительно знакомое нерусское лицо – круглое, с глазами немного вкось. «Да это же югор, что с чадом своим в лес побежал, когда я Дробилу стукнул», – сообразил Кулотка.
Маленький югор жестами, то приседая, то что-то гортанно выкрикивая, объяснял Кулотке, как долго шел следом за ним, охраняя от бед, подбрасывая убитых зверьков, как, увидя прыгнувшую на Кулотку рысь, пустил в нее стрелу и поспешил на помощь, когда богатырь стал тонуть.
– За добро – два добра, – говорил югор на своем языке, и Кулотка, не понимая точно смысла этих слов, догадывался, что они сердечные.
А югор продолжал рассказывать жестами, что Дробила и его ватажники уже отправились на тот свет (правда, не сообщил, что их заманили к себе югры, пообещав горностаев, и ночью перебили всех).
Кулотка поправлялся медленно. Пумга (так звали этого маленького жителя Югры) ухаживал за ним, как за ребенком. Лечил потрескавшиеся, кровоточащие десны, мазал каким-то вонючим раствором черные раны на щеках, растирал опухоли под коленями, давал пить горькую настойку. И все это с доброй улыбкой черных глаз, блестящих, как кожа тюленя, вынырнувшего из воды.
Когда Кулотка впервые поднялся, они сели в землянке рядом у огня. Пумга настругивал мерзлую рыбу. Кулотка делал силки. Ему очень захотелось рассказать Пумге о Тимофее. Он встал, соображая, как бы это сделать понятнее, показал рукой на себя, на Пумгу, обнял его и махнул рукой в сторону Новгорода.
– Понимаешь? Дружок у меня там! Тимоша! – крикнул Кулотка Пумге в самое ухо, словно он от этого должен был лучше понять.
Пумга с минуту озадаченно глядел на Кулотку, потом лицо его прояснилось, он тоже обнял Кулотку и, крикнув: «Тумоша!» – стал нежно гладить себя по щекам, приседая, подпрыгивая, танцем показывая, что понял Кулотку: эта самая Тумоша его возлюбленная, и, когда Кулотка выздоровеет, непременно состоится свадьба. Вполне довольные объяснением, они продолжали свою работу.
Глядя на Пумгу, Кулотка думал: «Разве ж он дикий! Людин как людин, не хуже любого новгородца».
Были у югра и смешные обычаи. Так однажды Пумга осторожно выкопал из земли лапу медведя; бережно держа ее перед собой, стал объяснять Кулотке, что лапа эта охраняет его, Пумгу, от бед. А потом откуда-то привел прирученного медвежонка и, смешно, заискивающе кланяясь ему, как иконе, забормотал непонятное. Медвежонок добро урчал, тыкался мокрым носом в колени Пумги.