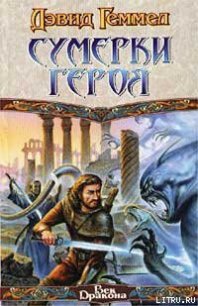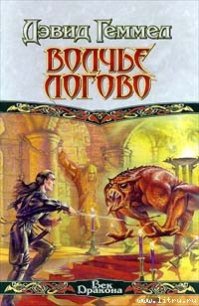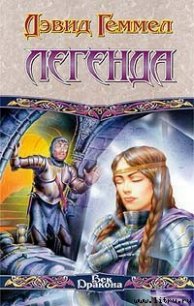Македонский Лев - Геммел Дэвид (электронную книгу бесплатно без регистрации .txt) 📗
— Ты победил его в Играх три года назад, и он достойно вынес свой позор. Оставь ему его собственный момент славы. — На пятидесятом году жизни Афинянин оставался по-прежнему красивым, только волосы стали теперь полностью серебряными и редели на макушке. Он взял кубок вина, добавил воды и проглотил напиток. Парменион жил ради часов, которые они проводили вместе, обсуждая стратегию и тактику, построения и сражения. Юноша учился, когда следует расширить фалангу, а когда сражаться узким строем, когда двигаться вперед, а когда отойти, и как выбирать главных воинов, которые держали бы строй, не давая ему рассыпаться. Ксенофонт любил рассказывать, а Парменион был счастлив слушать. Временами он не соглашался с анализом, и тогда двое мужчин могли спорить ночь напролет. Парменион всегда был несказанно рад позволить Ксенофонту убедиться в его правоте, и их дружба росла всё сильней. Гриллус был отправлен к друзьям в Афины, и часто Парменион мог днями остатваться с афинским полководцем, заняв место Гриллуса в летних путешествиях во второй дом Ксенофонта в Олимпии, у самого моря.
Годы шли, и предметом обсуждения Ксенофонта и его ученика стали современные стратегия и политика, и Парменион стал замечать в Афинянине все более возрастающий цинизм.
— Ты слыхал новости из Фив? — спросил его Ксенофонт однажды.
— Да, — ответил Парменион. — Сначала мне не верилось. Мы допустили скверную ошибку, и я думаю, еще поплатимся за нее.
— Я склонен согласиться, — сказал Ксенофонт. Тремя месяцами ранее македонский царь, Аминта, обратился к спартанцам за помощью против халкидских воинов, которые вторглись в Македонию и осадили столицу, Пеллу. Агесилай направил три лохоса на помощь македонцам, разбив халкидян. Но в их походе на север один спартанский отряд, под командованием военачальника Фебида, окружил Кадмею — крепость в центре Фив. Поскольку войны против Фив объявлено не было и они не были в союзе с халкидянами, то многие греки расценили этот шаг как вероломный удар.
— Агесилай должен вернуть город фиванцам, — сказал Парменион.
— Он не может, — ответил Ксенофонт. — Спартанская гордость не позволит ему сделать это. Но меня страшит результат. Афины уже высказались против Спарты, и я боюсь, что недолго осталось до того дня, как мы будем втянуты в новую войну.
— Ты разочарован, друг мой, — заметил Парменион. — Спарта проявила себя не лучшим лидером Греции.
— Боги! — тут же воскликнул Ксенофонт. — Тебе не следует говорить это на людях. Мои слуги верны — но верны они мне, а не тебе. Если один из них выдаст тебя, то последует обвинение в предательстве. Ты не выживешь.
— А разве я сказал неправду? — вспыхнул Парменион, понизив голос.
— Но что это даст? Если бы Спарта правила хотя бы в половину того умения, которое она проявляет на поле боя, то вся Греция была бы едина. Но она не может. И, сказав об этом открыто, ты рискуешь головой.
— Другие люди тоже так говорят, — сказал ему Парменион. — Разговоры в бараках — только один из примеров. В последних победах было много горечи, которую пришлось вкусить спартанцам. Они сейчас играют мускулами только потому, что Персия поддерживает их. Наследники Царя Мечей играют роль лизоблюдов при сыновьях Ксеркса.
— Политика запугивания, — шепнул Ксенофонт. — Но оставим этот разговор до лучших времен. Когда мы вернемся в Олимпию, сможем кататься верхом и говорить о чем угодно, и одна только земля будет слышать наши предательские речи. — Мужчины встали и прошли к воротам. — Как у тебя с финансами? — спросил Ксенофонт.
— Не хорошо. Я продал последнюю долю земельного надела — это окупит мои занятия до весны.
— А потом?
Парменион пожал плечами. — А потом я покину Спарту. Все равно ни один Зал Воинов не примет меня, я знаю. Я, наверное, присоединюсь к отряду наемников и посмотрю на мир.
— Ты мог бы продать Меч Леонида, — предположил Ксенофонт.
— Может, и продам, — ответил Парменион. — Увидимся через два дня.
Мужчины пожали друг другу руки, и Парменион вышел в ночь. Несмотря на то, что близилась полночь, он не хотел спать. Он вышел к акрополю и сел у бронзовой статуи Зевса, глядя на небо и на бриллианты звезд. Теперь ветер был прохладен, а его легкий льняной хитон предоставлял слабую защиту. Не думая о холоде, он устремил глаза к горам.
Последние три года прошли для него хорошо. Он вырос высоким и, несмотря на худобу, был сильным и выносливым. Лицо вытянулось, утратив мальчишеские черты, и его глубоко посаженные синие глаза теперь смотрели устрашающе. Он знал, его лицо не было ни милым, ни дружелюбным. Нос слишком выдавался вперед, губы были чересчур тонки, отчего он выглядел старше своих девятнадцати лет.
Наконец, когда холод стал слишком сильным даже для Пармениона, он встал, чтобы уйти. Только тогда заметил он фигуру в плаще с капюшоном, отделившуюся от Бронзового Дома и направившуюся к нему.
— Добрый вечер, — сказал он. Лунный свет блеснул на лезвии кинжала, который оказался в руке таинственной фигуры.
— Кто здесь? — зазвучал женский голос.
— Это Парменион, и я не причиню тебе зла, госпожа, — ответил он, протянув руки вперед и показывая пустые ладони.
— Что ты делаешь здесь? Шпионишь за мной?
— Вовсе нет. Я наслаждался звездным небом. Зачем мне за тобой шпионить?
Дерая откинула капюшон, и лунный свет окрасил ее волосы серебром. — Много времени утекло с тех пор, как мы с тобой последний раз говорили, юный Быстр.
— Это точно, — ответил он. — Что же привело тебя в Бронзовый Дом в полночный час?
— Мое личное дело, — ответила она, улыбаясь, чтобы спрятать слова радости. — Может, я тоже люблю смотреть на звезды.
Пойманное краем глаза движение заставило Пармениона повернуть голову, и он увидел молодого человека, крадущегося за Святилищем Муз. Он ничего не сказал.
— Спокойной ночи, — сказала Дерая, и Парменион поклонился, глядя, как девушка уходит по дороге. Она играла в опасную игру. Неженатым спартанцам воспрещалось свободно общаться с противоположным полом, и любое свидание могло закончиться пыткой или изгнанием. Это было одной из причин, почему некоторые юные спартанцы находили любовников среди мужчин. Вдруг он почувствовал, что завидует парню, который только что поспешно скрылся, и понял, что тоже рискнул бы многим, чтобы иметь возможность проводить время наедине с Дераей. Он по-прежнему помнил загорелое молодое тело, маленькие, упругие груди, тонкую талию…
Довольно! Одернул он себя.
Вернувшись домой, он сел в маленьком дворике и занялся поздним ужином из сушеной рыбы и вина; это стоило ему двух монет. Мысль о тающих финансах расстроила его. С продажи последней доли участка он выручил сто семьдесят драхм, но восемьдесят из них ушло на оплату занятий в бараках. Еще тридцать были отложены на покупку доспехов, когда он достигнет Мужества следующей весной. Остатка должно было хватить на еду и одежду. Он тряхнул головой. Новый плащ стоил двадцать драхм, а новая обувь — около десяти. Он понял: предстоит долгая тяжелая зима.
Войдя в дом, он закрыл окна и зажег маленький светильник. При его свете он достал Меч Леонида из сундука у дальней стены и извлек его из бронзовых ножен. Это был железный клинок, не длиннее локтя взрослого мужчины, с рукоятью, украшенной золотой проволокой, оплетающей круглое оголовье из чистейшего серебра.
Ксенофонт на все лады предлагал ему продать его. В Спарте были семьи, готовые выложить тысячу драхм за клинок с такой богатой историей. Парменион вложил меч обратно в ножны; скорее он умрет, чем расстанется с единственным трофеем в своей жизни.
У него была мечта, а меч был частью этой мечты. Он пойдет на войну, как наемник, стяжает себе великую славу, соберет армию и вернется в Спарту, захватив город и отомстив всем врагам своих юных дней. Дурацкая была мечта, и он знал это, но она придавала ему сил.
Скорее всего, догадывался он, ему придется записаться гоплитом в наемники, и провести свои дни в походах по бескрайним просторам Персии туда, куда позовут принц и его деньги. И что он с этого получит? Семь монет в сутки — чуть более драхмы. Это значит, если он выживет через двадцать лет таких походов, он может быть — только может быть — осилит покупку части какой-нибудь фермы или земельного надела. И даже в этом случае земля не будет так же велика, как то имущество, которое его матери — а теперь и ему — пришлось распродать.