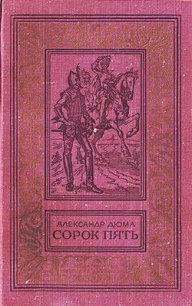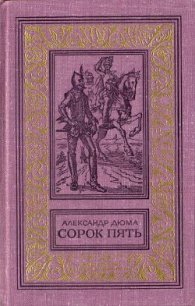Женщина с бархоткой на шее - Дюма Александр (читаемые книги читать .TXT) 📗
Покончив с этим, он улегся на довольно сырой постели, но всякая постель годится для восемнадцатилетнего путешественника.
К тому же нельзя быть разборчивым, когда ты имеешь счастье жить на Цветочной набережной!
Кроме того, Гофман вызвал в памяти образ Антонии, а разве рай находится не там, куда призывают ангелов?
VIII. О ТОМ, КАК МУЗЕИ И БИБЛИОТЕКИ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ, А ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ ОТКРЫТА
В комнате, которая в течение двух недель должна была служить Гофману земным раем, стояли уже знакомая нам кровать, стол и два стула.
Здесь был также камин, украшенный двумя голубыми стеклянными вазами, в которых красовались искусственные цветы. Сахарный Гений свободы сиял под хрустальной крышкой, отражавшей его трехцветное знамя и красный колпак.
Медный подсвечник, угловой шкаф старого розового дерева, стенной ковер двенадцатого века, заменявший занавеску, — вот и вся меблировка, какую он увидел в первых утренних лучах.
На ковре был изображен Орфей, играющий на скрипке, чтобы вновь завоевать Эвридику, и скрипка эта, вполне естественно, напомнила Гофману про Захарию Вернера.
«Друг мой дорогой, — подумал наш путешественник, — мы оба в Париже; мы снова вместе, и я увижу его сегодня или — самое позднее — завтра. С чего мне начать? Как устроиться таким образом, чтобы не потерять драгоценное время и увидеть во Франции все? Последние несколько дней я видел только безобразные живые картины, пойду-ка я в картинную галерею Лувра, которая принадлежала павшему тирану, — там я увижу и его собственность: полотна Рубенса, картины Пуссена. Мешкать нечего».
Одеваясь, он одновременно изучал открывавшийся из окна вид.
Тусклое, серое небо, черная грязь под белыми деревьями, озабоченные жители города, со всех ног бегущие куда-то, да еще какой-то шум, похожий на журчание воды, — вот и все, что он увидел и услышал.
Это было не слишком привлекательное зрелище. Гофман закрыл окно, позавтракал и вышел из дому, намереваясь прежде всего повидаться со своим другом Захарией Вернером.
Но, уже готовясь выбрать направление, он вспомнил, что Вернер так и не прислал ему своего адреса, без которого найти его будет трудновато.
Гофман приуныл.
Но он тотчас взял себя в руки.
«Какой же я глупец! Ведь то, что люблю я, любит и Захария. Я мечтаю посмотреть картины, значит, и Захария, уж верно, захочет их посмотреть. Я найду либо его самого, либо его след в Лувре. Итак, иду в Лувр».
Лувр был виден с моста. Гофман направился ко дворцу.
Но у дверей его он с горечью услышал, что, с тех пор как французы стали свободной нацией, они не услаждают свой взор живописью рабов и что, даже допуская невозможное — допуская, что Парижская коммуна еще не побросала в огонь все эти тряпки, чтобы разжечь печи литейных заводов, изготовляющих оружие для французов, следует все же беречь картины, а не кормить их маслом крыс, предназначенных в пищу патриотам, когда пруссаки начнут осаду Парижа.
Гофман почувствовал, что на лбу у него выступает пот; человек, который произнес эту тираду, говорил с видом оратора, сознающего свою значительность.
Этого говоруна восторженно приветствовали.
От одного из присутствующих Гофман узнал, что он имел честь беседовать с гражданином Симоном, воспитателем «детей Франции» и хранителем королевских музеев.
«Итак, картин я не увижу, — со вздохом сказал себе Гофман, — вот досада! Но я пойду в библиотеку покойного короля и, поскольку нет картин, посмотрю эстампы, медали и рукописи, увижу гробницу Хильдерика, родителя Хлодвига, а также небесный и земной глобусы отца Коронелли».
Придя туда, Гофман огорчился: он услышал, что французская нация, рассматривая науку и литературу как источники коррупции и безразличия к гражданскому долгу, закрыла все учреждения, где составляли заговоры мнимые ученые и мнимые литераторы, — закрыла исключительно из чувства гуманности, чтобы избавить себя от труда отправить этих бедняг на гильотину. Впрочем, и при тиране библиотека была открыта только два раза в неделю.
Гофману пришлось уйти ни с чем; ему пришлось даже забыть о том, чтобы навести справки о своем друге Захарии.
Но так как это был человек упрямый, то он решил во что бы то ни стало посмотреть музей Сент-Авуа.
Тут он услышал, что владелец его позавчера был гильотинирован.
Он дошел до Люксембургского дворца, но тот был превращен в тюрьму. Чувствуя, что его силы и мужество на исходе, он направился к своей
гостинице, чтобы дать отдых ногам, помечтать об Антонии, о Захарии и выкурить в одиночестве добрую трубку, которой хватит на два часа.
Но — о чудо! — эта самая Цветочная набережная, такая тихая, такая пустынная, сейчас была черна от множества сбежавшихся сюда людей: они бесновались и вопили истошными голосами.
Невысокий ростом, Гофман ничего не видел за спинами этих людей; работая локтями, он быстро пробился сквозь толпу и вернулся к себе в комнату.
Он подошел к окну.
Все взгляды тотчас же обратились к нему, и на мгновение он смутился, когда заметил, как мало окон было открыто. Однако окно Гофмана скоро перестало вызывать любопытство собравшихся — их привлекло нечто другое, и молодой человек поступил так же, как и другие: он устремил взор на вход в большое черное здание с остроконечной крышей; над крышей возвышалась квадратная тяжеловесная масса приземистой колоколенки.
Гофман позвал хозяйку.
— Гражданка, — обратился он к ней, — скажите, пожалуйста, что это за здание?
— Это Дворец, гражданин.
— А что делают в этом Дворце?
— Во Дворце правосудия судят, гражданин.
— Я думал, что у вас больше нет судов.
— Конечно, нет! У нас теперь только Революционный трибунал.
— Ах да, верно! А почему тут такая толпа?
— Люди ждут, когда приедут повозки.
— Какие повозки? Ничего не понимаю; вы уж простите меня: я ведь иностранец.
— Гражданин! Повозки — это все равно что похоронные дроги для тех людей, кого везут на смерть.
— Ах, Боже мой!
— Ну да, утром туда приводят заключенных, которых будет судить Революционный трибунал.
— Так.
— К четырем часам всех заключенных осуждают и размещают на повозках, которые гражданин Фукье реквизировал для этой цели.
— Кто этот гражданин Фукье?
— Общественный обвинитель.
— Так-так; ну, а дальше?
— Дальше повозки не спеша отправляются на площадь Революции, а там гильотина работает без передышки.
— Да что вы?
— Как! Вы выходили из дому и не взглянули на гильотину?! Да это первое, что идут смотреть иностранцы! Похоже, только у нас, у французов, и есть эти самые, гильотины.
— Примите мои поздравления, сударыня.
— Называйте меня «гражданка».
— Прошу прощения.
— Смотрите, вот они, повозки-то, — подъезжают.
— Вы уходите, гражданка?
— Да, не хочется мне больше смотреть на это. И хозяйка направилась к двери.
Гофман мягким движением взял ее за руку.
— Извините, я хочу задать вам один вопрос.
— Задайте.
— Почему вы сказали, что вам больше не хочется смотреть на это? Я бы на вашем месте сказал, что мне вообще не хочется на это смотреть.
— Видите ли, какое дело, гражданин: сперва на гильотину отправляли аристократов, и все они казались очень злыми. Они-то уж не склоняли голову, и у всех у них вид был такой вызывающий, такой заносчивый, что нелегко им было нас разжалобить и довести до слез. На их казнь смотрели прямо-таки с удовольствием. Отличное было зрелище — борьба мужественных врагов нации со смертью. Но как-то раз я увидела, что на повозку взбирается старик, и голова его ударяется о стенки повозки. Просто жалость брала смотреть на него. На следующий день я увидела монашек. Еще через день я увидела мальчонку лет четырнадцати, и в конце концов увидела в одной повозке молоденькую девушку, а в другой — ее мать, и эти две бедняжки посылали друг другу воздушные поцелуи и ни словечка не говорили. Они были такие бледненькие, и глаза у них были такие печальные, и такая обреченная улыбка была на их губах, а пальцами они шевелили только для того, чтобы послать воздушный поцелуй, и так они дрожали и такие были белые-белые, что до самой смерти я этого ужасного зрелища не забуду, и вот тогда-то я и поклялась, что никогда больше не буду смотреть на это.