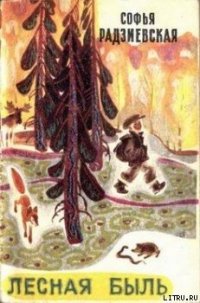Тысячелетняя ночь - Радзиевская Софья Борисовна (бесплатные онлайн книги читаем полные txt) 📗
Глава XIII
Его милость шериф Стаффордский сегодня был сильно в духе. Дело в том, что сэр Уильям Фицус, граф Гентингдонский, обратился к нему с требованием — призвать к суду безбожного преступника барона Гью Гисбурна. Сэр Уильям обвинил Гисбурна в ночном нападении на его замок, в грабеже и в убийстве жены его, благородной госпожи Элеоноры. Он требовал справедливого суда и казни преступника. «А имущество богомерзкого и преступного барона чтобы было отобрано в казну, и замок разрушен до основания, как воровское и разбойное гнездо», — так заканчивал свою жалобу граф Гентингдонский.
Шериф изволил плотно позавтракать жирным пирогом с перепёлками и, добавив к нему ещё румяную баранью ножку, щедро погасил вызванную трапезой жажду несколькими кубками густого и сладкого испанского вина. Но настроение милостивого шерифа было далеко не милостивым, и это уже испытали на себе все домашние, включая повара (за пережаренную баранину), слугу, подававшего яства (за разлитое вино), и дворецкого (за недостаточный блеск любимого золотого кубка).
— Клянусь костями святых угодников, — раздражённо ворчал шериф, с некоторым трудом соединяя на громадном животе пухлые, украшенные перстнями пальцы, — клянусь мощами преподобных Урбана и Гугона — для этого гисбурнского выродка черти давно уже накалили в аду железные вилы. Зацепи они его под девятое ребро за его проклятые шутки! Но чёрт побери мою душу, если я, осудив его, выпью спокойно хоть один кубок моей любимой мальвазии, как пью её сейчас… — шериф протянул пухлую руку к кубку, стоявшему на столе, как бы торопясь использовать последние минуты безопасности.
— Этот Иуда, — продолжал он вслух размышлять, — сумеет подсыпать в него чего-нибудь, сваренного по науке старой цыганки. А нет — так подстережёт меня отравленная стрела или ядовитая колючка воткнётся в собственной постели.
Новый глоток вина не в силах был смягчить горечи мыслей, и шериф с тяжёлым вздохом забарабанил пальцами по мягкой, обтянутой зелёной кожей ручке просторного кресла.
— Голова идёт кругом! — пожаловался он самому себе и точно, вставая с кресла, несколько пошатнулся. Это, однако, могло быть приписано как мрачной тени гисбурнского разбойника, так и особо убедительному действию нового бочонка великолепной мальвазии.
Однако нахмуренные брови шерифа вдруг разошлись и на надменном лице показалось даже некоторое подобие весёлой улыбки.
— Эй там! — громко крикнул он. — Биль, ленивая скотина, седлать коня живо и скакать к отцу…
— …Амвросию, — договорил мягкий голос за его спиной.
Шериф обернулся быстро, насколько это позволяли тучность и мальвазия. В глубокой амбразуре двери стоял небольшой сухонький человечек в чёрной сутане священника. Золотой крест блестел на его груди, на голове белела аккуратно пробритая круглая плешка — тонзура, а лицо с острым тонким носом и бегающими мышиными глазками являло смесь ума, лукавства и лицемерия.
— Отец Амвросий! — воскликнул шериф и с весёлым смехом, покачнувшись, грузно опустился в кресло, из которого только что с немалым трудом выбрался. — Отец Амвросий, разрази меня громы небесные… хорошо, хорошо, не буду, — поспешил он добавить, видя, как сухонькая ручка поднялась кверху с мягкой укоризной. — Я хотел сказать, что ты, святой отец, являешься всегда чертовски… удивительно вовремя. В жизни у меня не было большего затруднения, и я сам собирался обратиться к тебе, когда ты так удачно…
Скромно улыбаясь, священник перешёл комнату и опустился на стул против шерифа. Вмиг перед гостем появились, вместе с прочими яствами, дымящийся пирог с перепёлками и золотая чаша.
— Удивительная работа, — медленно произнёс отец Амвросий, как бы не обращая внимания на только что сказанные слова. Тонкие пальцы его, жадно охватив чашу, повернули её к свету, а быстрые глаза так и впились в изящную чеканку.
— Прекрасно — чаша эта будет твоей, преподобный отец, — нетерпеливо воскликнул шериф. — И возвеселит твою душу, если ты только рассеешь туман, окутавший мой разум.
Мышиные глазки вспыхнули, но тут же блеск их был погашен опущенными ресницами.
— Я слушаю тебя, — ласково проговорил священник и, поставив кубок на стол, снова взял его в руки — уже наполненный.
Умение слушать встречается ещё реже, чем умение говорить. Отец Амвросий, настоятель монастыря в Стаффорде, обладал и тем и другим даром в совершенстве. Скрестив руки и покачивая головой в такт довольно-таки бессвязной речи шерифа, он, казалось, весь обратился в участливое внимание.
Весеннее солнце, с трудом проникая в узкую щель окна, освещало громадную толстую фигуру шерифа во всём великолепии его зелёного бархатного платья с белым кружевным воротником. От ярких бликов на одежде и выпитого вина лицо его точно пылало, для пущей выразительности он иногда толстым кулаком ударял по столу с такой силой, что сухонький монашек каждый раз, вздрогнув, слегка передвигался в громадном кресле с высокой резной спинкой, а глаза его обегали мощную фигуру собеседника с тонкой насмешкой и затаённой завистью. В собственной же его тщедушной фигуре не было ничего округлённого: острый нос и подбородок, острый пронзительный взгляд. Даже небольшие тонкие уши, плотно прилегавшие к голове, вверху слегка отгибались неуловимо острыми концами.
— …И разрази меня горячка, я хочу сказать — помилуй меня, пресвятая богородица, если я знаю, что мне делать — как не прогневить короля и не вызвать месть проклятого разбойника.
Завершающий удар кулаком покачнул стол так, что золотой бокал на нём подпрыгнул и отозвался тонким прозрачным звоном. В этот момент солнечный луч, пробравшийся в глубину мрачной комнаты с каменными, увешанными оружием стенами, упал на дубовый поставец для посуды. В ярком свете на покрытых хитрой резьбой дверцах выступила смеющаяся головка лукавого языческого божка. Пурпурный огонь мальвазии, выпитой из золотой чаши, не вскружил головы отца Амвросия, но придал взгляду его лукавый блеск, напоминавший этого смеющегося фавна.
— Так, — произнёс он задумчиво и, вздохнув, окинул взглядом грузную фигуру рассказчика. — Часто я думаю: велика милость господня, но почему твоему благоутробию отпущено столь много даров телесных, какие приличествовали бы и моему сану и званию. — Он с грустью поднял в воздух сухонькую руку.
— Дело, дело прежде всего, достопочтенный отец, — нетерпеливо воскликнул шериф. — Как одновременно спасти честь и спокойствие, а может быть, и жизнь?
— Честь, спокойствие, жизнь? — монах покачал головой. — Трудное это дело — суметь позаботиться о них одновременно. Право, не знаю, что и посоветовать…
В наступившем тяжёлом молчании острый взгляд монаха, казалось, ощупывал растерянное красное лицо собеседника и его беспомощно вытаращенные глаза под нависшими густыми бровями.
— А слыхал ли ты, досточтенный шериф, — снова медленно заговорил он, — сколь высоко почитаются тягости благочестивых пилигримов, дающих обет посещения святого гроба господня? Его святейшеством папой прощаются такому добродетельному человеку все грехи, мало того — останавливаются опасные ему судебные дела, ибо велики его труды перед господом и перед ними бледнеют все земные его проступки. Осиянный милостью божией, уходит пилигрим в своё святое странствование и всё имущество его сохраняется в неприкосновенности.
Отец Амвросий выдержал значительную паузу, и лёгкая досада мелькнула в живых чертах его лица, так как взгляд собеседника выражал по-прежнему лишь растерянную тупость.
— Злые языки говорят, — медленно продолжал монах и слегка нагнулся вперёд, изучая лицо шерифа, — злые языки говорят, что иногда пилигрим, убоявшись трудностей, не доходит до святых мест, но, вернувшись, пользуется пусть и незаслуженно, славой и честью, ибо кто, кроме бога, может проверить, где и как он провёл годы странствований.
Преподобный отец ещё помолчал, искоса всматриваясь в лицо шерифа, на котором, похоже, наконец-то забрезжил свет понимания. Затем он откинулся в кресло и, резко переменив тон, добавил, пожимая плечами: