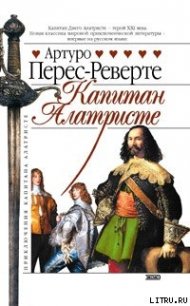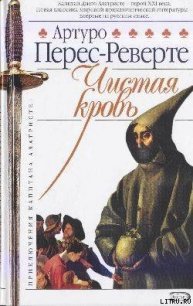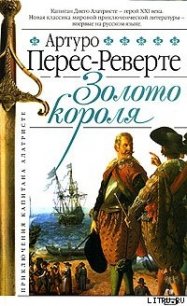Капитан Алатристе. Чистая кровь. Испанская ярость. Золото короля (сборник) - Перес-Реверте Артуро (первая книга TXT) 📗
Давно все это было – так давно, что иные даты стали путаться у меня в памяти. Однако твердо помню – то, о чем я собираюсь вам поведать, произошло в тысяча шестьсот двадцать каком-то году. История с людьми в масках и двумя англичанами породила немало толков при дворе, а капитана, хоть он чудом и спас свою шкуру, и без того изрядно попорченную голландскими солдатами, берберийскими пиратами, да и турками не раз дырявленную, наделила двумя врагами, не дававшими ему покою и роздыху до самой могилы. Я имею в виду Луиса де Алькесара, исполнявшего при нашем государе секретарские обязанности, и опаснейшего наемного убийцу, молчаливого итальянского головореза по имени Гвальтерио Малатеста, который до такой степени привык убивать в спину, что впадал в глубочайшую тоску всякий раз, как должен был нанести смертельный удар, глядя жертве в глаза, ибо в сем случае мнилось ему, будто он лишился умения своего и навыка. В тот самый год влюбился я, как телок, влюбился впервые и навсегда в Анхелику де Алькесар, существо порочное и испорченное, воплощенное зло, принявшее облик беленькой девочки лет одиннадцати-двенадцати. Но впрочем, обо всем по порядку.
Я был крещен именем Иньиго. И это было первое слово, которое произнес капитан Алатристе, выйдя из тюрьмы, где за долги просидел три недели, кормясь от щедрот казны. Что касается щедрот – не поймите меня буквально, ибо и в этой каталажке, и во всех прочих исправительных заведениях того времени арестант получал лишь те блага – включая и пресловутый корм, – какие мог оплатить из собственного кармана. А у капитана в кармане оказалась лишь полузадушенная арканом блоха – зато, по счастью, остались друзья на воле. И они его не бросили в беде и заключении, тяготы которого помогали сносить всякая съестная всячина, при моем посредстве передаваемая ему Каридад Непрухой, содержательницей таверны «У турка», и сколько-то там реалов, собранных его приятелями – доном Франсиско де Кеведо, Хуаном Вигонем и кое-кем еще. Что же до всего прочего – а под «прочим» я разумею неотъемлемые от каталажки неприятности, – капитан был из тех, кто одинаково хорошо умеет себя поставить и за себя постоять. В те времена очень даже в ходу среди арестантов был прискорбный камерный обычай освобождать своих же товарищей по несчастью от излишнего добра, то есть от добротной одежды или обувки. Но Диего Алатристе был в Мадриде человек известный, ну а тот, кто не знавал его прежде, очень скоро получал возможность убедиться, что обходиться с капитаном следует как можно – или нельзя – более учтиво: оно для здоровья полезней. Как впоследствии выяснилось, ввергнутый в узилище капитан первым делом подошел к самому отпетому громиле, державшему в страхе всю камеру, и, после любезного приветствия, приставил ему к горлу короткий нож, на бойнях именуемый обвалочным, который сумел пронести благодаря нескольким медякам, вовремя сунутым надзирателю. Этот демарш возымел последствия чудодейственные. После того как капитан столь недвусмысленно обнародовал свои житейские воззрения, никто уже более не осмеливался докучать ему, так что он, завернувшись в плащ и выбрав уголок почище, спокойно ложился спать, и лучшей защитой служила ему репутация человека, с которым шутки плохи. Великодушно делимые на всех передачи от Каридад и вино, приобретению коего споспешествовали приятели на воле, в изрядной степени помогли упрочить дружеские связи с сокамерниками, не исключая и того самого, с кем в первый день вышла небольшая, как сказал бы дон Франсиско Кеведо, разно… гм!.. стопица. Тот был родом из Кордовы, носил неблагозвучное имя Бартоло Типун и при ближайшем рассмотрении оказался вовсе не таким уж закоренелым злодеем, хоть и неоднократно по вине буйного своего нрава помещаем бывал за решетку. Да что говорить, в избытке обладал Диего Алатристе этим даром – он бы и в аду завел друзей.
Знаете, так давно это было, что даже не верится. Я запамятовал, какой в ту пору год стукнул нашему столетию – двадцать второй или двадцать третий, – но помню точно, что, когда капитан вышел из тюрьмы, от синей студеной свежести мадридского утра перехватывало дыхание. С того дня, который – оба мы тогда об этом даже не догадывались – так круто переменил нашу с капитаном жизнь, прошло немало времени и немало воды утекло под мостами Мансанареса, но, как сейчас, вижу я перед собой осунувшегося, обросшего щетиной Диего Алатристе: вот переступил он порог, и обитая гвоздями деревянная черная дверь закрылась у него за спиной. Вижу, как он сощурился и заморгал от ударившего в лицо ослепительного утреннего сияния, вижу густые усы, закрывающие верхнюю губу, вижу стройную фигуру в плаще, вижу, как, заметив меня на каменной скамье посреди площади, он улыбнулся одними глазами – светлыми, чуть сощуренными. Надо сказать, взгляд у капитана был какой-то особенный: обычно пронзительно-ясный и будто подернутый тонким ледком, как вода в озерце зимним утром, он порою вдруг теплел, делаясь дружелюбным и приветливым, и тогда казалось, что жаркий луч пробил ледяную корку, хотя лицо сохраняло бесстрастную и невозмутимую значительность. Была у него и другая улыбка – приберегалась для тех случаев, когда грозила опасность или томила печаль: тогда, встопорщивая ус, слегка кривились влево уголки губ и на лице появлялась либо угроза, неотвратимая, как разящий удар шпаги – он, впрочем, следовал без промедления, – либо глубокая скорбь. Последнее случалось в те дни, когда капитан в полном молчании и совершенном одиночестве выпивал в один присест несколько бутылок вина. Высосет литра три с лишним – и ничего: только время от времени характерным своим жестом утрет усы, вперив неподвижный взгляд в стену. «Призраков отгоняю», – говаривал он в таких случаях, хотя ни разу не удалось ему сделать так, чтобы они сгинули навсегда.
В то утро, заметив, что я поджидаю его на площади, он улыбнулся мне своей первой улыбкой: лицо осталось каменно-непроницаемым, речи сохранили суровую краткость, но глаза, выдавая истинные его чувства, засветились приветливо. Потом огляделся по сторонам и, явно довольный тем, что у ворот его не подкарауливает никто из кредиторов, подошел ко мне, сбросил, не боясь озябнуть, плащ, туго свернул его и сунул мне в руки со словами:
– Иньиго, сожги его. Клопы кишмя кишат.
От плаща, как и от его владельца, пахло сильно и скверно. Прочая одежда капитана тоже полна была этими кровожадными тварями так, словно он собрался разводить их на продажу. Но это выяснилось через час, в банях Мендо Тосканца, отставного солдата, некогда служившего в Неаполе, а ныне – цирюльника. Он чрезвычайно ценил и уважал капитана. Появившись в его заведении со сменой чистого белья и верхним платьем, извлеченными из горбатого сундука, который заменял нам гардероб, я обнаружил, что Диего Алатристе стоит в деревянной лохани, полной грязной воды, и вытирается. Он был уже на славу выбрит тосканцем, и короткие каштановые, еще влажные волосы, причесанные на прямой пробор, открывали широкий лоб, посмуглевший под солнцем тюремного дворика и украшенный маленьким шрамом чуть выше левой брови. Когда капитан вытерся и отбросил полотенце, обнаружились и другие памятные отметины, мне, впрочем, уже известные. Один шрам полумесяцем тянулся от правого соска к пупку. Другой зигзагом пересекал бедро. Все три были следами ран, именуемых колотыми, резаными, рублеными, тогда как четвертый, на спине, напоминал звезду и тем самым непреложно свидетельствовал о происхождении огнестрельном. Пятая, еще не вполне затянувшаяся рана, которая так ныла по ночам, не давая капитану заснуть, являла собой лиловатый рубец чуть не в ладонь шириной, помещалась на левой лопатке, получена была в битве при Флёрюсе больше года назад, но время от времени открывалась и нагнаивалась. Впрочем, в тот день, о котором я веду речь, она была в пристойном состоянии.
Я разглядывал капитана, а он тем временем неспешно и рассеянно одевался: натянул темно-серый колет и – поверх заштопанных во многих местах чулок – штаны, сшитые по валлонской моде, то есть собранные в коленях и зашнурованные. Туго перетянул стан кожаным поясом, который я в его отсутствие не забывал усердно смазывать свиным салом, пристегнул к нему шпагу с массивной поперечной рукоятью, иначе еще именуемой крестовиной, – чужие клинки оставили на чашке и эфесе множество зазубрин, вмятин и царапин. Хорошая длинная шпага работы толедского оружейника – от протяжного «з-з-з-зык», с которым она выскальзывала из ножен или в ножны возвращалась, мурашки шли по коже. Завершив туалет, капитан погляделся в выщербленное зеркало и промолвил с усталой улыбкой: