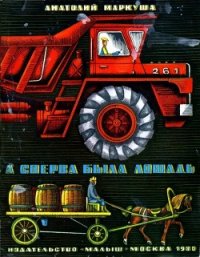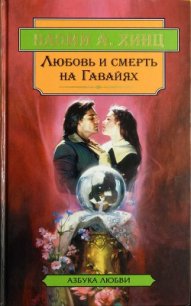Каменная грудь - Загорный Анатолий Гаврилович (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Бессильно опустил руки.
Огромная степь и звездное небо сливались в одну бездонную яму. Нащупал рукою землю, сел. «Может, еще встанет? Полежит и встанет». Он готов всю ночь сидеть подле, сидеть и ждать… Беспомощно потер глаза большими кулаками, сжался в комочек так, что уши коснулись коленей, придвинулся к теплу и заснул…
Ему снилось, что он с другими мальчишками лазает по болоту, где весело светят солнечные блики и много забавных паучков прыгает по воде. Мальчишки тыкают в ил длинными заостренными на концах жердями. То один, то другой из них кричит, достав со дна рыжую грязь: «Кровь земли!» Старшие на берегу дивятся, чудно им. «Вот ведь и в земле кровушка ходит», – говорят. А Шуба только улыбается в бороденку. Хитрый он, отыскал ведь руду в болоте.
… Вот дед стоит у наковальни, дружится с огнем, ничуть его не боится. Сыплются искры, молот грохочет каким-то новым, сладостным звуком, будит в душах что-то смутное, дремлющее. И не возгорятся волосы, не затлеет рубаха… А вот он уже совсем старик. Идет в степи постукивает перед собой легкой ольховой тростинкой, и вдруг остановится – любуется цветом болиголова, похожим на овсяную кашу с винной вишенкой посередине. Нагибается к земле, нюхает травку, затем осторожно выкапывает ее, чтобы положить в камышовую сумку. Пойдет на пользу! К нему приходят и кто нутро застудил и кто пуп сорвал на тяжелой боярской работе. Никому не отказывает. Роется в бесчисленных берестяных коробочках, где и стебли горицвета, и синие, похожие на змеиную пасть, цветы шалфея, и усохшая полынь, будто кусочки окислой меди. Чудной, добрый дед… А Любава не являлась…
Проснулся Доброгаст оттого, что кто-то уставился на него и смотрел в упор, смотрел и молчал. Открыл глаза – тьма-тьмущая, только две зеленые звездочки светят. Справа сверкнули две такие же звездочки, словно бы чье-то дыхание послышалось. Несколько минут сидел скованный сном, слушая, как сердце широко ходит в груди, потом нащупал рукою плеть и полосонул ею тьму. Бешено взвизгнул волк, затявкал. Доброгаст хлестнул еще – направо, налево. Мелькнули пружинистые тени, послышался злобный вой и жалобное поскуливание. Звери отступили. Мрачный, возвратился к лошади. Он уже знал, у него холодило бок, но все же где-то в сознании теплилась слабая надежда. Тронул – холодный, безжизненный труп.
«Свершилось! Я холоп!» – Лязгнул зубами, повторил про себя: «холоп», – жуткое, гнусное слово, и огляделся по сторонам. Но кругом ничего не изменилось. Так же ныряла луна в холодном, светлом тумане, выхватывая из мрака вспаханную полосу, все так же дул из степи ветерок. Что же может измениться оттого, что пала паршивая желтозубая кляча? Ничто не может измениться: та же воля кругом – и на земле и на небе, куда не взглянешь!
Он не хочет этого… Столько уже прожито, хожено с дедом по Руси, вспахано земли, поработано в кузнице, одних гвоздей сделано тысячи, пожалуй, до Киева уложить можно. Что бы там ни говорил боярин Блуд, ничто не связывает Доброгаста с лошадью. Вот она, дохлая, – три раза сплюнуть через плечо, чтобы короста не прицепилась, а он жив и будет жить свободным человеком. Это единственное богатство, завещанное ему отцом. Нет, не быть ему холопом!
Начинало светать, и Доброгаст, сонный, вымученный, пошел прочь, слыша, как волки набросились на труп и, визжа и захлебываясь, стали терзать внутренности. Прибавил шагу, чтобы поскорее уйти, не слышать их противного визга; к тому же надо было прийти на Гнилые воды раньше, чем люди увидят останки лошади и разнесут весть, что отныне, по русскому закону, Доброгаст стал холопом. Он все ускорял шаги, но рассвет вешней порой поднимается быстро, весело, звонким воробьиным чириканьем на дорогах вызывает день к жизни.
Сырая, черная земля пристает к лаптям, и они становятся тяжелыми, будто колодки. Походка его стала другой, не такой уверенной, как прежде, он низко опустил голову, словно на лице рубцом горело позорное клеймо раба.
Стаями летели в небе птицы. Они несли из-за моря ключи, чтобы отомкнуть лето и накрепко запереть зиму. Недолго уже оставалось ей прятаться в яругах и пыхать оттуда холодом.
Послышались озорные девичьи голоса, поющие веселую песню-веснянку. Они приближались. Доброгаст сошел с дороги и стал спускаться к Гнилым водам.
Солнце выкатилось огромное, дымящееся паром, и все вдруг засветилось, засияло в капельках росы; потянуло крепким запахом перепрелой травы. Ветер дул снизу. Он летел по степному раздолью, отогревая продрогшие за ночь кустарники и деревья. Наступило их время, они начали тянуть из мягкой податливой почвы живительные соки. В тысячах озерец талой воды заплескало солнце, многоликое, вездесущее.
Вот и Гнилые воды.
Толпа девушек взбежала на косогор.
Девушки громко смеялись. Одна из них, с медною гривной на шее, сложила ладони у рта и кричала:
– Праздник весны! Праздник весны! Проснись, Доброгаст! Медведь проснулся!
Болью в душе отозвались ее слова. Он скрыл от нее, что пошел в закупы, и она не знала о его ночных бдениях. Стоял за мокрым стволом осокоря, боялся шелохнуться.
Размахивая привязанными к веткам лоскутными птичками, девушки все пели, и в их песне слышалось что-то жалобное, тревожное. Песня тихо замирала в реденькой рощице.
Отовсюду неслись призывные голоса. Сыпал дробным клекотом орел, звал самку, какое-то насекомое верещало, верещало, славило жизнь. Даже старый со спиленным рогом вол тупо мычал в широко растворившихся воротах боярской усадьбы.
Босая, с подоткнутым подолом юбки, Любава дрожала на ветру, как тонкое, еще не распрямившееся деревцо. Жалко ей было своей молодости, знала – скоро начнется иная жизнь, трудовая, тяжкая жизнь-недоля. Вот ведь придет нареченный и сгубит ее молодость… так сокол по весне кровянит белую лебедушку.
– Проснись, Доброгаст! Праздник весны! Худая трава ноги оплетет, лежебока! – крикнула Любава, и девушки побежали, скрылись за курганом.
Доброгаст медленно побрел к кузнице. Дед Шуба сидел на пеньке у болота, составив ноги в лаптях, моргая белыми ресницами. Следил за тем, как текли Гнилые воды. Хоть и медленно, но все же текли, пузырились. Откуда-то сверху срывалась тяжелая капля, шлепалась звонко, и по воде шли загадочные круги: один… два… три. Шуба улыбался. Это был маленький, щуплый старик, ничуть не похожий на кузнеца. Все в его облике было просто и законченно, будто кто вырезал его из светлого, пахучего полена липки. Голова с лысиной, покрытая мягким, как у птенца, пухом, желтоватая бороденка да старческие пальцы с отбитыми ногтями.
Шуба поднялся навстречу внуку, но Доброгаст даже не взглянул на него, прошел в кузницу. Там было убого и мрачно. Две широкие замызганные лавки у стен, с которых осыпалась глина, обнажая плетеный остов, чурбан, заменявший стол, и несколько полок, заваленных пахучими травами. Горнило в углу обвесилось седыми космами паутины, меха валялись запыленные, ненужные. Кузница, казалось, доживала свои последние дни. Отовсюду сквозило, усохший стебель какого-то ползучего растения подрагивал у волокового окна. Без устали скрипел в старых, почерневших жердях под крышей жук-пилильщик.
Тяжело опустился на лавку Доброгаст, окинул мутным взором стены, словно впервые их видел. Нищета… нищета хуже смерти. Вошел Шуба. Он ни о чем не спросил внука, но, когда ставил перед ним тарелку с похлебкой, руки его заметно дрожали. Доброгаст достал с полки выщербленную ложку, стал есть, не чувствуя вкуса. Дед принялся что-то скоблить ножом. Тягостно молчали.
– Надорвался конь… – не вытерпел наконец Доброгаст.
– Знаю… все знаю, – отозвался старик. Лысина его увлажнилась.
Доброгаст недоверчиво покосился: