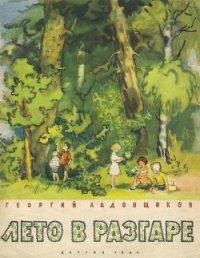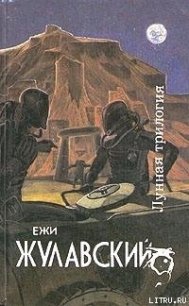Георгий Победоносец - Малинин Сергей (книги серии онлайн .TXT) 📗
— Без тебя знаю, — рыкнул Аким, с сожалением сворачивая пращу и засовывая её за пояс. — Ступай, я следом.
Боярин сидел в узкой светёлке, где обыкновенно уединялся, дабы без чужого глаза воздать должное зелену вину. Здесь же, когда случалась нужда, он вёл долгие беседы с глазу на глаз с Акимом. Бревенчатые стены были увешаны узорчатыми коврами, поверх которых красовалось любовно вычищенное и наточенное, хоть сей же час в бой, оружие предков — мечи, кривые сабли, шестопёры, булавы, кинжалы, круглые щиты и богато вызолоченные шеломы. Акиму нравилось глядеть на оружие: было оно не только красно, но и к делу пригодно, да не к какому попало делу, а к тому самому, которое Безносый Аким умел и любил делать лучше всего на свете.
На боярина глядеть было не в пример хуже, чем на мечи да луки со стрелами. Едва его завидев, Аким, как обычно, поборол желание распластаться на полу. Вместо этого он поклонился, стащив с головы шапку, и, оборотясь к красному углу, перекрестился на иконы — боярин любил, чтоб люди при нём выказывали набожность, хотя бы и напускную. Вот Аким и крестился — жалко, что ли? Небось рука не отсохнет.
— Собирайся в дорогу, — сказал ему боярин, наливая себе вина в золочёную, с затейливым узором, сулею. — Я конюху скажу, чтоб Воронка тебе дал. На нём, на Воронке, и поедешь.
Сказав так, боярин разинул рот и выплеснул в него вино. Пока он крякал, сопел и утирал бороду, Аким быстро прикинул, что к чему. Воронок был жеребчик не быстрый, однако зело выносливый. Стало быть, путь предстоял дальний и нескорый. Куда бы это?
— Поедешь астраханского хана воевать, — будто подслушав его мысли, ответил на невысказанный вопрос палача Феофан Иоаннович. — Пристанешь к войску, кое ныне туда отправляется…
— Я-то? — не сдержавшись, перебил грозного хозяина изумлённый Аким.
— То-то, что ты, — проворчал боярин, сызнова наполняя сулею. — Ясно, что с такою рожей тебя десятником али пушкарём не поставят. Да мне сие и не надобно, войско с Божьей помощью и без тебя, пса, татарина побьёт. А ты гляди в оба. Попадёшься — стрельцы с тобой потешатся. На кол посадят да и оставят воронью на поживу. Посему иди за войском скрытно, личиной ли какой прикройся… Ну, не мне тебя учить. Сосед мой, Зимин, тож там будет. Вот его ты мне и добудь. Да так добудь, чтоб не на тебя, а на татар подумали. Чтоб в бою и у всех на глазах.
Аким поклонился с искренним почтением. Здесь, в этой увешанной оружием горнице, они с боярином не раз обсуждали, как бы им заставить чрезмерно горделивого да заносчивого дворянчика склонить непокорную голову перед родовитым соседом. Аким, лесная душа, предлагал меры простые, скорые и кровавые, боярин же его удерживал, говоря, что царь, коему хорошо ведомо об их с Зиминым подспудной распре и взаимной неприязни, может заподозрить его, Феофана Иоанновича, в злом умышлении. А ежели заподозрит, имение Зимина как пить дать ему не отпишет, а заберёт в казну. На что тогда руки марать? «Случая надобно ждать, — говорил боярин. — Случай, он завсегда подвернётся, ежели рот не разевать и терпение иметь».
Аким, понятно, с хозяином не спорил, но про себя думал, что осторожничает боярин сверх меры. Надобно тебе соседу шею свернуть — пойди да сверни, чего тут мудрить? А о том, что после будет, не задумывайся: Бог не выдаст, свинья не съест.
А теперь выходило, что боярин-то опять прав оказался: терпение его великое наконец себя оказало. На то и война, чтоб люди гибли. Свистнет ли из кустов меткая стрела, вонзится ли в разгар боя под ребро обоюдоострый кинжал, конец один — смерть. А виноват кто? Поди-ка, не боярин Долгопятый! Татарин виноват, больше некому… Ловко!
— А и мудр же ты, боярин, — молвил Аким, мигом всё сообразив.
— На то и думный боярин, чтоб головою думать, а не гузном, как иные, — проворчал Феофан Иоаннович, поднося к бороде наполненную до краёв сулею. — Ну, ступай с Богом. Да шалить не вздумай; ежели что, сам знаешь — из-под земли достану и обратно в неё, матушку, по самые ноздри вобью.
Безносый палач молча поклонился боярину и, тяжко скрипя половицами, вышел из горницы.
Глава 5
Денёк выдался ясный, погожий, почти по-летнему тёплый. Солнце с самого утра принялось за работу: выкрасило яркими пёстрыми красками небо и землю, зажгло на реке золотые искры, высушило росу, прогнало из ложбинок предутренний зябкий туман, обогрело и приласкало каждое деревце, каждую травинку, всякую Божью тварь. Эх, любо! Жаль только, что мужику в эту пору недосуг красотами земными любоваться. Да и где она, та пора, когда б ему, лапотнику, достало времени колом стоять и, разинув рот, глазеть на то, как речка рябит, либо как ветерок листвой играет? С ранней весны до поздней осени в поле спину гни, да и зимой работы хватает: то в лес по дрова, то в извоз, то в отхожий промысел, на Москве палаты каменные возводить, а то ещё чего на нечёсаную макушку свалится — за работой, слава тебе господи, мужику гоняться не приходится, она сама его где угодно сыщет.
А всё одно любо. И ещё краше, когда работа, которой занят, тебе по нутру. Хорошо тому, кого Господь в неизъяснимой милости своей наградил при рождении каким-никаким талантом, вложил в голову разумение, а в руки — ремесло. Талант, он всё едино себя окажет, будь ты хоть трижды мужик. Талант — благословение Господне, а оно как подземный ручей: сколь его взаперти ни держи, рано или поздно на волю пробьётся.
Так оно и со Стёпкой Лаптевым вышло. Богомазом, как дружок его, дворянский сын Никита Андреев сын Зимин, прочил, он, понятно, не стал — жизнь не пустила. Тогда, после той полузабытой драки на речном берегу, когда Стёпка боярскому сынку светлый его краснощёкий лик попортил, Никиткин отец, Андрей Савельевич, храни его Господь за его доброту, вывез всё Стёпкино семейство в дальнюю свою деревню, подальше от злого боярского глаза. Деревенька была, как говорится, кот наплакал, воробей нагадил — двадцать дворов всего, и меж них ни одного зажиточного. Кругом лес, а в лесу известно, какая земля — песочек, вот тебе и все пахотные угодья. Был когда-то починок — пришли мужички, лес повырубили, пни да коренья повыжгли, стали сеяться. Да только с тех пор уж много воды утекло — изрожалась землица, оскудела. Паши её или не паши — всё едино; счастье, ежели по осени удастся то вернуть, что весной в борозду бросили. Посему мужички в Лесной, как деревня-то прозывалась, издревле жили извозом, отхожими промыслами да рубкой леса, коего в округе, слава богу, хватало, и даже с избытком.
Вот и Стёпкин отец в лесорубы подался — жить-то надо. Да, видать, не пошла лаптевскому семейству впрок барская доброта: трёх годков не минуло, как зашибло его в лесу деревом. Насмерть зашибло; мужики, что с ним в лесу были, сказывали, что не мучился — сразу, с одного удара, Богу душу отдал. Видать, Стёпка, когда боярского сына кулаком в глаз бил, сильно Господа прогневал, вот и вышло ему, стало быть, через отцову смерть наказание.
Никто ему того не говорил, однако вину свою в отцовой погибели Стёпка нутром чуял. Ну, да как там ни будь, а остался он в свои неполные четырнадцать годков в семье единственным мужиком, кормильцем да защитником. И то слава богу, что всей семьи-то — мать да он сам. Однако двоим тож кормиться надобно, а мать после того, как отец-то погиб, с горя занедужила — ослабела ногами, едва-едва у печки с горшками управлялась. Ну, какой тут может быть монастырь, какая такая иконопись? Пришлось остаться; да он, Стёпка, с малолетства знал, что придётся, а потому и не горевал. Мужику себя пустыми мечтаньями тешить не полагается; мечтай ты хоть всю жизнь царём сделаться либо, для примера, взять себе в жёны Василису Премудрую, всё едино как был ты смердом в драных портах, так смердом и помрёшь, и не будет тебе ни царства, ни Василисы.
Парнем он рос крепким, в четырнадцать лет глядел на все семнадцать, а посему, когда попросился подручным в плотницкую артель, мужики недолго думали, тем паче что им как раз шустрый помощник был надобен. Стал Степан приучаться к ремеслу, и вот тут-то божий дар себя и оказал. Присели как-то мужики для роздыха. Стёпка тоже присел, только чуть поодаль, как младшему полагается. Сидит и топориком обрезок доски ковыряет, режет что-то. Старшой глядел-глядел, а после не вытерпел, подошёл. Хотел мальцу попенять: что ж ты, дескать, оголец, матерьял попусту переводишь? А глянул — и враз пенять раздумал: выходит из-под Стёпкиного топора петух, коим конёк крыши венчают, да так лепо выходит, так красно, что старшой залюбовался. А ну, говорит, кажи, чего у тебя тут. Стёпка застыдился, петуха руками закрыл. Это, говорит, так, для потехи. «А ежели не для потехи?» — старшой спрашивает. «Можно и не для потехи, — Стёпка ему говорит. — Тогда, я чай, много краше получится».