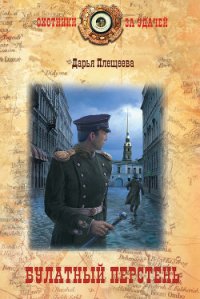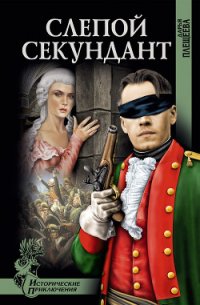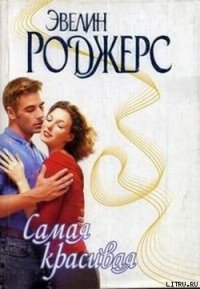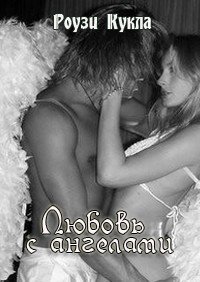Курляндский бес - Плещеева Дарья (читаем книги онлайн TXT) 📗
Глава шестая
Шатры сокольников, стрельцов и князя Тюфякина были разбиты выше по течению, чем герцогский замок на острове, чуть ли не в версте от него, и немного не доходя до берега протоки – хотя в летнюю жару протока и обмелела, но береженого Бог бережет. Место было неплохое, но немного смущала близость леса – лес подступал к Митаве и к реке почти вплотную. Поэтому Шумилов распорядился охранять шатры и на скорую руку сколоченные навесы для коней едва ли не так, как вооруженные стрельцы берегут Кремль, – с оружием и с перекличкой.
Сильно удивлялись добрые митавцы, слыша ночью протяжные и загадочные голоса:
– Славен город Москва-а-а!.. Славен город Каза-а-ань!.. Славен город Кострома-а-а…
Ивашка с того самого дня, как приехали сокольники, по велению Шумилова проверял дозоры и чуть что – грозился царским гневом. Лето, жара, река манит – окунись на минутку! А пока плещешься – злоумышленник тут как тут.
– Не знаете вы, каково в такую жарищу в приказе сидеть, потом обливаться! – сказал он приятелю своему, сокольнику Трифону, с которым состоял в каком-то запутанном родстве. – Вам-то хорошо, выезжаете с государем, а мы-то в Москве сидим безвылазно. Вас-то государь всех в лицо знает и жалует…
Трифон усмехнулся – сокольники были царскими любимцами, но им же и влетало по первое число, если приключалась хоть малейшая беда с драгоценными птицами. А если кого застанут при птицах пьяным – счастье, коли батогами отделается. Сам Трифон состоял при кречетах с младых ногтей, и отец его, и дед были при ловчих птицах, ему сам Бог велел – да и очень редко брали в сокольники людей со стороны. А отец еще дал сынку правильное имя – человека по имени Трифон государь приметит и будет к нему благосклонен.
Лет сто назад, коли не более, был у государя Ивана Васильевича любимый белый кречет – и во время охоты, спущенный на цаплю, пропал. Сперва царь не волновался – хороший кречет может и шесть верст преследовать добычу, повторяя ставки столько, сколько потребуется. Но нет любимца и нет – царь разгневался, послал на поиски сокольника Трифона Патрикеева. Два дня ездил Патрикеев подмосковными лесами, безуспешно свистя, дуя в вабик и размахивая вабилом – двумя сшитыми вместе голубиными крыльями на длинном шнуре. Но сколько ни крутил он над головой этот несложный снаряд-приманку, кречет не появлялся и не откликался, ниоткуда не доносился звон серебряных колокольцев, подвешенных к его хвосту. На третий день стало ясно – стряслась беда. Патрикеев сошел с коня, встал на колени и принялся молиться своему святому – мученику Трифону. И, помолясь, неожиданно для себя уснул.
Во сне ему явился юноша на белом коне, державший на руке царского кречета – эту крупную, белую в мелких черных крапинах птицу сокольник узнал сразу, и дивно было, что кречет сидит на голой руке, не изодрав ее длинными когтями. Юноша произнес: «Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ни о чем не печалься».
Вдруг проснувшись, Патрикеев поднял голову – и увидел неподалеку на сосне пропавшего кречета. Он тут же сманил птицу вниз, отвез к царю и рассказал о чудесной помощи, полученной им от святого мученика Трифона. Иван Васильевич умилился и дозволил Патрикееву поставить на том месте, где было явление святого, часовню во славу святого. Потом там и храм Божий построили. Вокруг храма выросло село Напрудное. А святого Трифона с того времени сокольники почитали своим покровителем и в беде всегда его призывали.
Ивашкиного приятеля и в бумагах-то именовали Тришкой, а с глазу на глаз – так тем более они обращались друг к другу попросту, как привыкли с детства.
– Пройдем отсюда к берегу и берегом – с той стороны вернемся, – предложил Тришка. – Да что ты паришься в зипуне и в сапогах? Разуйся, сложи свое добро у меня в шалаше. Не венчаться, чай, идешь. Да и не доживу я до твоего венчанья.
Сам он был в одной желтой рубахе, подпоясанной красным кушаком, в закатанных по колено лазоревых портах и босой.
– И точно, что не доживешь, – согласился Ивашка. – Кому я, сирота, нужен…
Он с большой охотой разделся и занес зипун с сапогами в шатер под присмотр дремавшего там начального сокольника Федора Игнатьева. Там он задумался – как быть с саблей?
Когда Ивашку отрядили сопровождать Шумилова, ему для пущей важности выдали эту старую и тупую саблю. Он таскал ее на боку сперва с гордостью, потом с тихой ненавистью – проку от нее не предвиделось, прок мог быть от турецкого кинжала, с которым он в Курляндии не расставался, или от пистоли. Чтобы рубиться на саблях – учиться надобно, Ивашку же учили совсем иным делам. Однако Шумилов требовал достойного вида – и Ивашка решил, что босиком и при сабле – получится именно тот вид, который требуется начальству. А если Арсений Петрович вздумает возразить, то уж найдется, что ответить.
Он вышел из шатра беспредельно радостный – разве ж не счастье ощутить босыми ногами шелковую траву? И Тришка, увидев его, так зареготал – аж с подвизгиваньем, с потрясанием кулаками и затем – с нарочитым хватанием за пузо, едва не треснувшее. Сам он был вооружен плетью, заткнутой за пояс. В умелых руках плеть творит чудеса – а Тришка был опытный охотник и наездник, как все сокольники, и этим оружием владел отменно.
В дозоре стояли по двое самые младшие по чину – сокольничьи поддатни, а также стрельцы из тех, что сопровождали обоз с драгоценными подарками. Стрельцы из упрямства не сняли кафтанов, а поддатни, молодые парни, были в одних рубахах и тоже босые. Они маялись бездельем и гоняли здешних мальчишек нездешним словом. Мальчишки не унимались, снова и снова пытались проползти к загадочным шатрам. Кое-кто уже получил плетью по заду.
Убедившись, что никто не удрал к реке купаться, Ивашка с Тришкой пошли к прибрежным кустам. На берегу тоже было место, где стоял, а вернее сказать, сидел караул, – лодочный причал, у которого привязаны три лодки. Любезное дело – сидя в лодке, озирать соколиным взором окрестности. Или же любоваться рекой, замирающими в воздухе стрекозами, проплывающими утками и гусями, играющей рыбой. Река всегда найдет, чем глаз повеселить.
– Стой… – прошептал Тришка и вдруг опустился на корточки. – Да что ты торчишь, как хрен на насесте!..
Ивашка рухнул чуть ли не на четвереньки.
– Слышишь?
– Да…
Кто-то пробирался кустами вдоль берега, негромко выкликая слова на неизвестном языке. Голос был сиплый, на семи ветрах охрипший, прокуренный и пропитый, по одному лишь этому голосу можно было признать бывалого моряка, статочно – даже боцмана, которому в бурю частенько приходилось орать во всю глотку.
– Кто бы это?
– Бес его знает…
– Ты ж языки учил…
– Я немецкий учил, шведский, польский – ну, польский все знают… по-французски разумею – по-письменному, по-голландски чуть… этот – ни черта не разобрать…
– Зовет кого-то, – сообразил Тришка. – Может, бабу?
– А что – может, и бабу! Поучил уму-разуму, она вырвалась, убежала, в кустах прячется, а он кличет: дура, выходи, не бойся, я добрый! Да только что ж это выходит? Что и баба на том же наречии разговаривает?!
Ивашка забеспокоился – черт его знает, кто тут шастает вокруг шатров и какие тайные знаки своими воплями подает. Соколы – птицы драгоценные, и не ворье ли тут перекликается?
– Ты, Трифон Батькович, беги к нашему подьячему, донеси, – сказал он. – А я буду его стеречь. Коли придется – за ним следом пойду. Скажи – пусть помощь присылает. Коли что – будем вора живьем брать.
– Бегу… – и Тришка на корточках поспешил вдоль кустов, помогая себе руками, ни дать ни взять – мартышка, одна из тех, что прибыли в Либаву вместе с хозяином подозрительной испанской книжки.
– Господи, благослови вора имати! – прошептал Ивашка, перекрестился и бесстрашно пополз на четвереньках, сообразуясь с хриплым голосом и пытаясь выделить хоть что-то знакомое из мешанины слогов.
Кусты кончились, он оказался на берегу. Берег, как оно и должно быть на всякой судоходной реке, изобиловал дрянью: тут были осклизлые бревна, доски, черные кучи вонючей мерзости на сером, усыпанном мелкими ракушками песке, в воду уходили хлипкие мостки и причалы. Пахло той особой тухлятиной, какую учуешь только у воды. Тот, кто выкликал непонятные слова, еще скрывался за кустами; он вдруг отчаянно закашлялся; кашель прочистил ему глотку, и из глотки вырвалось совершенно внятное: