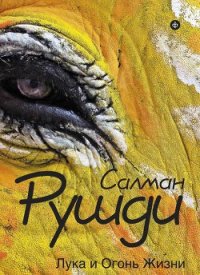Бессмертный - Слэттон Трейси (читать полностью книгу без регистрации TXT) 📗
Выходя из комнаты, он сказал Симонетте:
— Есть один офицер, Альберти, частый наш клиент. Пошли за ним. Я объясню ему, что случилось. И пошли за врачом, евреем, который подтвердит мою историю. Пообещай ему флорин, если он скажет то, что скажу ему я. Если начнет артачиться, пригрози, что его семью вышлют из Флоренции.
Прошел почти еще год, а я по-прежнему не менялся. Я стал часто рассматривать свое отражение в темных зеркалах, развешанных по всему дворцу Сильвано для клиентов, которые смотрелись в них перед уходом. Лицо у меня нисколько не изменилось и оставалось мальчишеским, без пушка. А вдруг Сильвано прав и я урод? Мерзость? Я знал, что я никакой не колдун. Неужели из-за этого меня и выбросили в детстве на улицу? Что со мной не так? Почему я не взрослею, как другие мальчики? Даже Джотто однажды упомянул об этом, когда мы вместе прогуливались.
Стояло чудесное летнее утро, обещавшее ясный, погожий день. Со всех сторон нас обступала яркая, громкая, пахучая жизнь Флоренции, которую я так любил в те дни, когда трагические события еще не определили мою дальнейшую судьбу. Весь город был в цветах: цветы в горшках и на деревянных телегах, приехавших с деревенских ферм. Хорошенькие женщины в ярких платьях несли корзины со сладкими винными ягодами, молодыми бобами, мотками отличной флорентийской шерсти. Кондотьеры в кожаной одежде, вооруженные мечами, расхаживали с важным видом по улицам. Бегали мальчишки, скакали тощие собаки, коты — и вовсе костлявые — гонялись за крысами, попрятавшимися от жары. Рынки, заваленные пахучими сырами, свежей рыбой из Арно и розовым мясом, бочками с вином и гончарными изделиями, которыми славился город. И прочей всякой всячиной, с которой люди — обычные люди с семьями, нормальные люди — связывали свою жизнь. Вблизи от фронтона церкви Санта Мария дель Фьоре закладывали камни для колокольни Джотто, и лязг сливался с цокотом копыт, звоном церковных колоколов, скрипом и грохотом повозок, телег и фургонов; мычанием коров, блеянием овец и коз, доносившимися с городских рынков, и отдаленным шуршанием мельниц и чесальных мастерских, расположенных по берегам реки. В воздухе носился гомон бессчетных голосов: разговоры и ссоры, песни и приветствия, кто-то просто торговался. Старый валломброзсанский монах брат Пьетро, недавно в качестве наказания получивший задание написать летопись своего ордена, сказал мне, что сейчас во Флоренции живет сто тысяч человек, и в ясные деньки вроде нынешнего все они, похоже, высыпали на улицы. Мы с Джотто направлялись к месту стройки Санта Марии дель Фьоре, когда мастер вдруг остановился, запыхавшись от быстрой ходьбы, и указал на какой-то камень.
— Ты знаешь, что это такое, Лука Кукколо? — В голосе его звучала нежность, когда он назвал меня «Лука-Щеночек», но я знал, что она предназначалась не мне, а плоскому серому камню, лежавшему перед нами. На камне было что-то написано черными буквами, но я не умел читать, поэтому мотнул головой.
— Это место поминовения, неподвластное времени, святыня, подобная алтарю, — пояснил Джотто. — Я называю его Sasso di Dante, камень Данте. Он часами сидел здесь, наблюдая за строительством, размышлял и писал свою бессмертную «Комедию».
— Данте, великий поэт, который был вашим другом? — закивал я.
Джотто часто вспоминал Данте, с любовью и уважением. Ах, если бы я умел читать, то смог бы хоть как-то разделить его восхищение другом! Я подумал, нельзя ли убедить брата Пьетро обучить меня чтению? Искусство чтения было не по чину человеку моего низкого положения, однако тогда многие во Флоренции умели читать. Может быть, если я подарю брату Пьетро жемчужное распятие, которое я снял с мертвого клиента и спрятал в мышиной норке…
Я добавил:
— Значит, этот камень священен, потому что на нем часто сиживал великий, совершенный человек?
— Мой друг был далеко не совершенен. В своем великом произведении «Ад» он признается, что и ему свойственны похоть и гордыня…
— В аду, должно быть, народу больше, чем во Флоренции, если каждый, кто грешен в похоти и гордыни, признается в этом, — заметил я.
Простое, чудесное лицо Джотто расплылось в улыбке.
— Все мы люди. Ты тоже станешь жертвой похоти, когда вырастешь и станешь мужчиной.
— Меня погубит не похоть, — пробормотал я, тревожно вспомнив, как Сильвано обвинял меня в колдовстве.
Джотто засмеялся одному ему свойственным полнозвучным смехом, как бы идущим из самого нутра. Прохожие оглядывались на него и улыбались.
— И меня тоже. По милости Божьей, для таких есть чистилище.
— Если можешь поверить в милость, — сухо возразил я. — Ведь для меня, чтобы попасть в рай, одного чистилища будет мало.
— А я верю, — кивнул Джотто. — Итак, несовершенство делает камень священным. Данте был хорошим человеком, но со своими недостатками, как все мы. Данте даже отправили в ссылку за взяточничество, хотя это и было несправедливое обвинение.
— Значит, дело в его гениальности, — задумчиво произнес я, проводя рукой по шершавой поверхности камня. — В его поэтическом таланте. Поэтому этот камень священен, хотя он и не был совершенным человеком.
— Вот именно! — Джотто похлопал меня по плечу. — Совершенных людей не бывает. Бывают люди выдающиеся. А ты, Лука, понятлив!
— Не знаю, — с сомнением ответил я. — Я думал, что священно только то, что освящено церковью. Как хлеб и вино причастия.
Я никогда не причащался, так как не проходил обряда конфирмации. Я даже не был уверен в том, что меня крестили. Я не помню ни родителей, ни той жизни, которая у меня, возможно, была до улицы.
— Если хочешь познать святость, ищи ее у природы, — посоветовал Джотто.
— Священники говорят иначе, — отпарировал я, как всегда, наслаждаясь нашим спором.
— Ты слишком умен, чтобы верить словам священников, — снова рассмеялся Джотто. — Тебе уже достаточно лет, чтобы иметь собственное мнение.
Он остановился и, склонив набок свою седеющую голову, задержал на мне пристальный взгляд.
— Правда, годы не отразились на твоем лице и не повлияли на рост. Ты словно картина — не меняешься со временем. Ты нисколько не вырос за те годы, что я тебя знаю. Вероятно, ты родился под особой звездой, которая даровала тебе молодость. Возможно, тебя даже обойдет грех мужской похоти…
— Я думаю, ваши картины священны, — робко вставил я свое слово. — И картины Чимабуэ.
— Это почему же? — переспросил Джотто, отвлекшись, как я и хотел, от прежней темы.
Мне не хотелось, чтобы он вдавался в обсуждение моих недостатков. Я и без того с трудом скрывал в его присутствии обуревавшие меня сомнения. Неспособность к взрослению, как врожденное уродство, мучила меня с каждым днем все больше. Я не желал оставаться мерзким уродом. Я убаюкивал свое горе и отчаяние, сосредоточившись на картинах Джотто.
— Мягкие цвета, свет, — выдохнул я, вызвав в памяти знакомые образы. — Неспешные движения людей на ваших картинах исполнены… О! Такого достоинства! В этом безмолвном достоинстве столько глубокого чувства. А взгляд мой всегда невольно возвращается к центру, на что бы я ни смотрел.
Я мог бы сказать и больше, ведь я столько времени посвятил этим картинам, столько над ними размышлял. Я околачивался рядом со священниками, художниками и профессорами, что говорили о них, прислушивался всем своим существом к их ученым словам, однако я замолк, чтобы посмотреть, какое впечатление мои слова произвели на Джотто. Он внимательно смотрел на меня, склонив голову набок.
— В тебе есть какая-то загадка, Бастардо, — произнес он. — Лицом ты мальчик, а говоришь точно старец, слишком долго носивший в себе невысказанные мысли. Мне такое и раньше встречалось. Осторожно — как бы тебя не сожгли за это! Церковь не очень-то жалует тех, кто думает по-своему.
— Никто не жалует, — ответил я, вспомнив, как то же самое говорил Сильвано.
Джотто покачал головой.
— И осторожнее выбирай людей, которым ты доверяешь свои мысли, — добавил он, и уголки его рта опустились и на лице появилось непривычное для него печальное выражение.