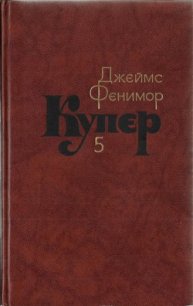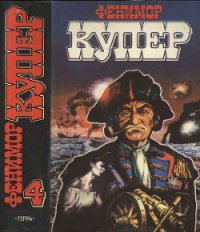Палач, или Аббатство виноградарей - Купер Джеймс Фенимор (книги бесплатно без регистрации полные .TXT) 📗
— Снимаю шляпу перед Швейцарией! — воскликнул синьор Гримальди, после того как привлек внимание Адельгейды к одному из пиков Савойских Альп, на который, по его словам, нисходят ангелы, посещая нашу грешную землю. — Страна воистину прекрасна! Италии же — клянусь предками! — пришлось немало потрудиться, чтобы прославить свою красоту. Что ты скажешь нам, юная госпожа? Часто ли тебе доводилось наблюдать такие великолепные закаты в поместье Вилладингов? Или сегодняшний вечер представляет собой исключение, и ты поражена не менее, чем — клянусь святым Франциском! — мы с Марчелли?
Адельгейда улыбнулась в ответ на хвалебную речь старого аристократа, но, как ни любила она родную страну, все же вынуждена была признать, что подобные закаты можно наблюдать не часто.
— Но мы можем любоваться ледниками и озерами, хижинами и шале; а Оберленд, а ущелья, такие глубокие, что в них вечно стоят сумерки!
— Ах, моя простосердечная, милая швейцарка! Конечно же, для тебя лужица талой воды дороже, чем тысячи кристальной чистоты источников, иначе ты не была бы дочерью доброго Мельхиора де Вилладинга! Отец Ксавье, ты — незаинтересованный свидетель, поскольку живешь на гряде, разделяющей обе страны, и потому ответь мне: часты ли в Швейцарии столь великолепные закаты?
Почтеннейший монах отнесся к вопросу с должной благосклонностью, ибо живительная прохлада воздуха и божественное очарование безмятежного вечера располагали к радостному настроению.
— Если уж вы отвели мне роль беспристрастного судии, то скажу, что каждая страна по-своему хороша. Дивная красота Швейцарии достойна удивления, но Италия более подкупает. Впечатления, которые вы получили, посетив эту южную страну, надолго западают в душу. Швейцария поражает вас, но Италия незаметно завоевывает ваше сердце; для первой у вас в изобилии готовы похвалы, но слова теряют свою силу, когда вы намереваетесь высказать всю тайную тоску, все долго лелеемые воспоминания и ропот, которые пробуждает у вас вторая.
— Как хорошо сказано! Причем наш добрый августинец, как истинный ценитель, сумел польстить каждому. Герр Мюллер, по нраву ли тебе пришлось, что у хваленой Швейцарии оказался столь сильный соперник?
— Синьор, — ответил скромный путешественник, — обе эти страны сотворены Господом, и потому каждая достойна равной любви и восхищения. В этом удивительном мире люди могли бы жить счастливо, если бы у них хватало мужества противостоять греху.
— Наш добрейший августинец скажет тебе, что твоя точка зрения напоминает одну богословскую доктрину, которая, впрочем, несколько иначе трактует человеческую натуру. Тот, кто намерен противостоять греху, вынужден вести тяжкую борьбу с собственными дурными наклонностями.
Странник задумался, и Сигизмунд, который смотрел на него не отрываясь, заметил, что лицо его выражает небывалое умиротворение.
— Синьор, — ответил наконец герр Мюллер, — я полагаю, наши злоключения идут нам на пользу. Тот, кому постоянно везет, становится своеволен и упрям, как перекормленный вол; напротив, человек, постоянно терпящий обиды от своих собратьев, привыкает всматриваться в себя и рано или поздно научается обуздывать свои страсти, вовремя подмечая их.
— Ты последователь Кальвина? — спросил вдруг августинец, удивляясь тому, что отступник от истинной Церкви, оказывается, способен судить столь здраво.
— Отче, я не присоединяюсь ни к религии Рима, ни к религии Женевы. Я всего лишь скромно молюсь Господу, уповая на посредничество Его безгрешного Сына.
— Но где ты мог обрести эти мысли, если не под сенью Церкви?
— Я нашел их в собственном сердце. Оно мой священный храм, и я не вхожу туда без благоговейного трепета перед всемогущим Создателем. Когда я появился на свет, над кровом моего отца нависали тучи, и потому мне приходилось держаться поодаль от людей; однако одиночество заставило меня пристальней вглядеться в собственную натуру, которая, надеюсь, не стала хуже от изучения. Я знаю, что являюсь недостойным грешником, много хуже других людей, если верить тому, что они о себе говорят.
Слова герра Мюллера, сказанные им негромко и искренне, пробудили всеобщее любопытство. Собеседники могли бы принять его за одного из тех восторженных мечтателей, которые возбуждают себя, занимаясь притворным самобичеванием, если бы не задумчивый и кроткий вид странника, производящий на всех самое благоприятное впечатление. Его постоянная самоуглубленность и готовность уступить свидетельствовали о том, что он привык размышлять более над своими, нежели над чужими поступками, и старается исправить только себя.
— Не всякий из нас может иметь то лестное мнение о себе, на которое ссылается господин Мюллер, — утешающе заметил генуэзец, причем на лицо его набежала едва приметная тень, — да и вряд ли вообще найдется человек, чья совесть совершенно спокойна. Если ты способен утешиться тем, что другие не менее несчастливы, знай: мне также пришлось немало страдать, хотя жизнь моя складывалась так, что иные считали меня счастливцем и даже завидовали мне.
— Я был бы низок, если бы искал себе утешение в чужом несчастье! Я не жалуюсь, синьор, хотя моя жизнь не была мне в радость; трудно быть счастливым, когда все кругом порицают вас. И все же я страдаю, но не ропщу.
— Что за одинокая душа! — шепнула Адельгейда юному Сигизмунду: оба, с глубочайшей сосредоточенностью, внимали тихой, но впечатляющей речи герра Мюллера. Юноша ничего не ответил, и его прелестная спутница с удивлением заметила, что он, бледный необычайно, с усилием улыбнулся в ответ на ее слова.
— Люди осуждают обычно тех, сын мой, — вмешался монах, — кто уклоняется от своих обязанностей. Последние могут быть не вполне достойны, и все же общественное мнение никогда не порицает невинности, даже в самом широком смысле этого слова, если на то нет оснований.
Герр Мюллер внимательно взглянул на августинца и готов был уже ответить, но, повинуясь некоему внутреннему побуждению, сдержался и кивнул в знак согласия. В то же самое время странная, мучительная улыбка появилась на его лице.
— Верно ты говоришь, добрейший каноник, — простодушно подтвердил барон. — Мы только и делаем, что ссоримся со всеми; а при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что причина наших горестей — в нас самих.
— А воля Провидения, отец! — воскликнула Адельгейда, слишком горячо для покорной и нежной дочери, каковой она обычно себя обнаруживала. — Разве способны мы вернуть к жизни умерших или удержать тех, кого Господу угодно отнять у нас?
— Ты права, дочка! Этой истины твой престарелый отец не может отрицать…
Слова барона вызвали неловкое молчание собеседников; герр Мюллер переводил взгляд с одного лица на другое, как если бы искал человека, на которого он мог бы положиться. Наконец он обратил взгляд на береговые холмы, созданные Творцом столь причудливыми, и, казалось, растворился в их задумчивости.
— Душа его искалечена опрометчивыми поступками юности, — тихо заметил синьор Гримальди. — И потому его раскаяние неотделимо от самоотречения. Не знаю, чего он заслуживает более — зависти или жалости? Покорность судьбе, судя по всему, не избавила его от страданий.
— Он не похож на лгуна или шарлатана, — ответил барон. — Если он и в самом деле Мюллер из Эмменталя или Энтлебуха, мне должна быть известна его история. Все они богатые бюргеры с честным именем. Правда, во времена моей молодости один из них навлек на себя неудовольствие городского совета тем, что утаивал доходы, не желая платить налогов; но потом он внес в городскую казну достаточно солидную сумму, и дело было позабыто. В нашем кантоне, герр Мюллер, редко встретишь человека, который не является ни сторонником Рима, ни последователем Кальвина.
— Немного, господин, найдется людей в том же положении, что и я. Ни Рим, ни Кальвин не удовлетворят меня, ибо я нуждаюсь в Господе.
— Ты, наверное, убил человека?
Странник кивнул, и лицо его, под наплывом собственных мыслей, приняло зловещее выражение. Барону де Вилладишу оно настолько не понравилось, что старый аристократ в замешательстве отвел глаза. Герр Мюллер несколько раз взглянул в сторону носовой части барка, как если бы ему необходимо было что-то сообщить, но он затрудняется это сделать по некой немаловажной причине. Наконец он признался — спокойно и не стыдясь, как человек, понимающий важность своих слов, хотя говорить старался как можно тише: