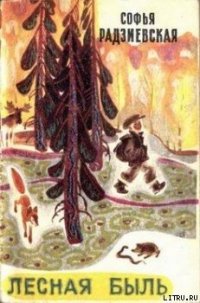Тысячелетняя ночь - Радзиевская Софья Борисовна (бесплатные онлайн книги читаем полные txt) 📗
— Клянусь гривой моего коня, — вскричал барон Гисбурн, и слуга, поднимавший поднос, вздрогнул, услышав такую необычную клятву. — Конечно, ворон не мог отправиться прямо в замок в совиной одежде, и я ждал его напрасно на этой дороге, проклятый дурак. Но в следующий раз он меня не проведёт: я узнаю, где его гнёздышко. Бруно, сюда! — отрывисто бросил он, и слуга исчез с молниеносной быстротой, довольный тем, что господин не заметил падения подноса. Такого промаха было достаточно, чтобы виновного до полусмерти заколотили палками, а не то можно было познакомиться и с «лисой».
— Бруно к господину, Бруно к господину! — молнией пронеслось по замку.
Это был вернейший и ближайший помощник Гью Гисбурна. Много лет уже ни одно тёмное дело не обходилось без его участия. И что удивительно — печать порока, столь явная на лице господина, была совершенно незаметна на лице престарелого слуги, напротив — его спокойная осанка и благообразные черты внушали доверие. Только очень тонкого знатока человеческих душ мог бы насторожить слегка бегающий лукаво-плутовской взгляд. Бруно, несмотря на особое расположение к нему, не рисковал раздражать господина долгим ожиданием, он заспешил по лестнице со всем проворством, на какое были способны его старые ноги.
— Что прикажешь, милостивый господин? — почтительно сказал, входя и преклоняя колено перед спиной в лошадиной шкуре (сэр Гью всё ещё упорно смотрел в окно).
— Мне надоели Гентингдоны, — сказал тот, не оборачиваясь. — Вчера этот мальчишка капеллан… Нет! — резко перебил он себя и, повернувшись к Бруно, стукнул кулаком по столу. — Десять лет тому назад, ты помнишь? Мне, Гью Гисбурну, отказали в руке девчонки, род которой ниже моего рода. Десять лет терплю я это, и ты до сих пор не придумал ничего, чтобы потешить моё сердце и отомстить за обиду. Мне надоело это! Придумай, старая лисица, не то познакомишься со своей тёзкой!
Бруно, размышляя, опустил голову. Медлить было нельзя — когда у господина вот так вздувались жилы на лбу, нужно было действовать. Но как? Замок Гентингдонов неприступен, и король строго следит за тем, чтобы бароны не заводили между собой войн, как это бывало в прежние времена. Да и не в привычках благородного сэра Гью подставлять голову там, где можно было взять хитростью…
— Есть одно средство, господин, — наконец заговорил он, поднимая голову и выпрямляясь. — Благородная госпожа Элеонора раз в неделю выезжает на соколиную охоту. Не очень она это любит, но рада доставить сыну удовольствие. Ей самой-то каждой пичуги жалко, монашкой ей быть, а не женой знатного рыцаря, — насмешливо добавил он, но, взглянув на господина, осёкся.
— О ком говоришь, собака? — синея от бешенства, сэр Гью схватился за пояс — один из испанских кинжалов, с которым он не расставался и во сне, мелькнул в воздухе и вонзился в стену. Бруно, знавший нрав господина, едва успел уклониться.
— Прости, господин! — поспешно сказал он и, бледнея, упал на колени, — никогда нельзя сказать, чем кончится гнев Гисбурна. Но тот вполне удовлетворился очевидным испугом Бруно — ему нужны были его советы.
— Ладно, говори дело, — мрачно проворчал он, опускаясь в кресло.
— Благородная госпожа Элеонора будет возвращаться с охоты, — начал излагать свой план старый слуга, осторожно поднимаясь с колен. — У самых ворот её встретит пилигрим — изнурённый, просящий приюта. Она добра, господин, — нерешительно прибавил он и покосился на кинжал, ещё дрожавший в стене, — и она любопытна, как все женщины, она впустит пилигрима в замок и будет слушать его рассказы о святой земле, — пилигрим много видел и сумеет её позабавить. Ручаюсь, что, накормив, она оставит его отдохнуть после трудного пути. Пилигрим же ночью найдёт способ отворить ворота и спустить мост. — Бруно выдержал искусную паузу, внимательно изучая лицо господина, и прибавил, понизив голос: — Пилигримом буду я, господин.
Большинство лиц хорошеет от улыбки, некоторые от улыбки не меняются, но трудно было бы найти лицо, которое улыбка делала таким безобразным, как и без того страшное лицо Гью Гисбурна. Его маленькие глаза совсем почти скрылись под нависшими веками и заблестели оттуда, как раскалённые уголья, узкогубый рот скривился на сторону, открывая торчащие вперёд широкие жёлтые зубы, а хриплое рычание, которое он издал, не показалось бы смехом и дикому зверю. Сам будущий пилигрим оробел и отшатнулся. Но уже в следующее мгновение дикая радость сбежала с лица господина и оно приняло своё обычное злобно-угрюмое выражение.
— Иди и делай, — коротко бросил он и головой указал на дверь.
Вечером в людской Бруно делился с приятелем-слугой:
— Ты знаешь, я не боюсь ни бога, ни чёрта, Боб, но когда господин смеётся, у меня гнутся колени. Смилуйся, божья матерь, над теми, кто вызовет его смех!
В эту ночь случайные прохожие со страхом оглядывались на огонь, горевший в угловой башне замка.
— Старый коршун опять не спит, — шёпотом говорили они. — Смилуйся, божья матерь, над теми, кто помешал ему спать!
Торопясь уйти от проклятого места, они не могли видеть, как сэр Гью всю ночь метался по комнате. Он размахивал руками, то бормоча что-то про себя, то выкрикивая дикие проклятия. Чёрная тень с лошадиным хвостом прыгала по стенам, загибаясь на низкий сводчатый потолок, а пламя небольшого серебряного светильника то разгоралось, то грозило потухнуть от резких взмахов его руки, сжимавшей старинный двуручный меч. Бруно тоже всю ночь промаялся.
Много раз мысленно раскаивался он в своей выдумке, которая, ещё не погубив доброй Элеоноры, грозила погубить его самого.
Глава IX
— Это, милостивая госпожа, кусочек древа от животворящего креста господня. С великой опасностью удалось мне спасти его от поругания неверными. А это — зуб святого Христофора, известно — его рост был как два дуба, поставленные один на другой. Восемь сарацинов положил я этой вот рукой, чтобы отбить у них святыню… А вот это неоценённое сокровище — волос пресвятой богородицы. Его дал мне благочестивый старец. Тридцать лет жил он в пустыне в посте и молитве и за всё это время не стриг волос и ногтей и не умывался, дабы видом своего тела не соблазниться. Чресла его были перепоясаны длинной его бородой и вид звереподобен, но столь велика была его святость, что ангелы божии спускались и беседовали с ним. Пять лет провёл я со святым отшельником в одной пещере. Он умер на моих руках, прославляя имя господне, и блестящий свет исходил от его тела, подобный лунному сиянию. Руками выкопал я ему могилу, похоронил его и покинул это место, ибо оно теперь свято и не подобает грешному человеку обитать в нём.
Рассказ прервался, в наступившем молчании хитрые глаза пилигрима быстро обежали группу слушателей и остановились на госпоже Элеоноре. Синее бархатное платье её широкими складками ниспадало на пол, сливаясь с синей обивкой резного дубового кресла, золотистые волосы выбивались из-под жемчужной повязки, шею облегал белый шитый воротничок. Опираясь на ручки кресла, она слегка наклонилась вперёд, находясь во власти услышанного. Встретившись с открытым доверчивым взглядом больших синих глаз, святой скиталец вдруг потупился и лёгкая краска показалась на его смуглых щеках.
Большая зала нижнего этажа замка была полна народу и хотя ужин уже кончился, слуги против обыкновения не покидали его — рассказы пилигрима захватили всех от мала до велика. Грамотных людей во всей средневековой Англии было очень немного, почти исключительно — среди монахов и высшего духовенства. А деревенские священники часто наизусть бормотали свои латинские молитвы, не понимая их смысла, и уж конечно не могли служить источником просвещения для своей паствы. Разумеется, газет, журналов и учебников тогда не существовало, как, впрочем, и самих этих слов в английском языке. Любознательные люди в замках и деревнях, знатные и простые, с радостью встречали странников, возвращавшихся из чужих земель, и слушали их рассказы об удивительных приключениях и о жизни в заморских странах. Правду от вымысла в таких рассказах было не отличить, да к этому и не стремились, чем страшнее и удивительнее — тем больше хотелось верить. И сейчас в большой замковой зале слушали и верили все — от гордой госпожи Беатрисы до последнего слуги. Роберт сидел на бархатной подушке у ног матери, охватив колени руками. Щёки его пылали, глаза горели, он весь был под впечатлением рассказа.