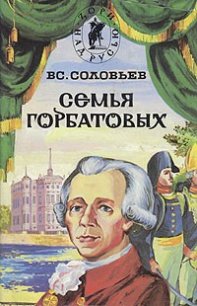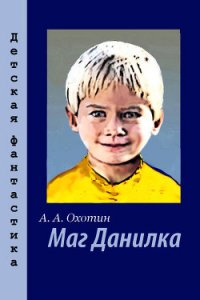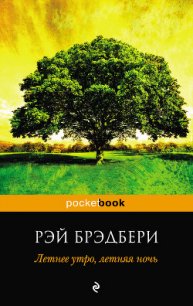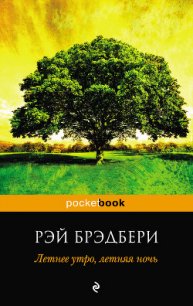Семья Горбатовых. Часть первая - Соловьев Всеволод Сергеевич (е книги .txt) 📗
С этой запиской Мария Федоровна отправилась в покои цесаревича, который на этот день остался в Петербурге.
— Ты видишь, в каком я положении, — сказала она ему, — a Alexandrine!.. пойди, сам взгляни на нее! И матушка требует, чтобы мы присутствовали сегодня на балу! Вот прочтите!..
Цесаревич, нахмурившись, пробежал глазами записку императрицы.
— Да, она крепится, — сказал он, — хочет выдержать, все сгладить и поправить… сердится!.. Ну, что же, конечно, нужно не подавать виду, соблюсти приличия… Будьте на балу!
— А о чем же это матушка пишет, что вы должны сообщить мне? — спросила великая княгиня.
Цесаревич пожал плечами.
— Она уверяет, что вся беда произошла от того, что в статье о вероисповедании сказано: «православная, апостольская, греческая!..» Будто они всего-навсего просили изменить так: «исповедание, в котором она родилась и воспитана». Будто в этом заключается все недоразумение и, следовательно, его легко разъяснить и уладить. Не понимаю, зачем надо себя обманывать? Ясное дело, что этой свадьбе не бывать, и нужно теперь только одно — чтобы он скорее уехал отсюда. Это такое испытание — встречаться с ним, быть с ним любезным!.. Я просто не могу их видеть, и главным образом не его, а этого герцога. Я уверен, что все это его рук дело. Так я и матушке сказал, и она, кажется, согласна со мною… Постарайтесь успокоиться, мой друг, все это тяжело и возмутительно, но, кто знает, может быть, и к лучшему. Малютка наша, наверно, была бы с ним несчастна, быть может, это Господне милосердие!.. До свиданья, мой друг, идите к ней, постарайтесь внушить ей мысль, что Бог устраивает все к нашему благу, что часто думая, что теряем, мы только приобретаем.
Цесаревич поцеловал руку жены и ласковым кивком головы отпустил ее. Великая княгиня вышла от него несколько успокоенная. Она боялась большой бури с его стороны; она боялась, что он не в силах будет сдержать себя. Но вот он оказывается спокойнее всех, он даже почти доволен, что дело не состоялось.
«Опять предчувствие? Она кончит тем, что будет верить его предчувствиям безусловно — они так часто сбываются!..»
Однако успокоить малютку, внушить ей покорность воле Божией было нелегко. В ее годы, при первом пробуждении страстного чувства, о Боге думают мало, а если и думают, то в этой мысли не находят того утешения, которое является потом, в иные годы, после многих битв жизни…
Во всяком случае, и великой княгине, и «малютке» пришлось последовать совету императрицы: они вытерли себе глаза и уши льдом, приняли бестужевских капель и появились на балу.
Это был очень печальный бал: приглашенных оказалось немного, оживления никакого. Танцы совсем не клеились. Вот приехал король, на него все глядели с негодованием; но он ни на кого не обращал внимания. На его тонком, холодном лице нельзя было прочесть никакого смущения. Он как ни в чем не бывало поздоровался с великой княгиней, подошел к великой княжне с приветственной фразой. И не заметил он даже, что при его приближении она смертельно побледнела и едва удержалась на ногах.
— Maman, мне дурно, — прошептала она великой княгине, — ради Бога, уведите меня.
Пришлось исполнить ее требование.
Появилась и императрица. Она уже за этот день окончательно справилась с собою, и даже внимательный наблюдатель не мог бы заметить в ней ничего особенного. Правда, она довольно холодно приветствовала короля, она мало кого удостоила своим разговором и уехала очень скоро, сказав перед отъездом великой княгине:
— Поговорите с ним, мне любопытно, что он вам скажет. Известите меня запиской.
По ее отъезде великая княгиня подошла к Густаву.
— Объясните мне, — сказала она ему, — что все это значит? Как следует понимать ваш поступок с нами?.. Извините, я говорю прямо, я иначе не могу, — что вы сделали с моей дочерью? Если бы кто-нибудь мне сказал, что вы способны поступить так, я бы назвала такого человека клеветником. Неужели вы так бессердечны? Неужели вы ее совсем не любите? Но в таком случае зачем было заставить всех нас поверить?
— Ваше высочество, — отвечал король, несколько смущенный ее тоном, замечая ее волнение, слыша сдерживаемые слезы в ее голосе, — ваше высочество, упреки ваши несправедливы. Мне очень тяжело все это, но я не мог поступить иначе…
Он стал объяснять и оправдываться и закончил красивою фразою:
— Если мне предстоит разбить свое сердце, я разобью его, но только исполняя свои обязанности короля Швеции. Я не могу изменить этим обязанностям, хотя бы мне пришлось умереть; но я надеюсь, что дело еще уладится! Да, оно должно уладиться!
— Я бы хотела верить этому, — ответила великая княгиня, — уладить это дело необходимо для вашего счастья. Но скажите мне откровенно: действительно ли вы имеете какую-нибудь надежду?
— Я храню небольшой луч ее! — проговорил он, замолчал и стал угрюмо глядеть по сторонам.
Великая княгиня отошла от него и скрылась во внутренние покои. Король несколько раз прошелся по зале, особенно любезно раскланялся со всеми и уехал. Это было его последнее появление перед двором Екатерины…
Прошло несколько дней. Во дворце не было ни балов, ни приемов. После целого ряда блестящих празднеств наступило затишье. Со шведами шли переговоры, которые не вели ни к чему. Регент употреблял все усилия для того, чтобы убедить императрицу и великую княгиню в своей к ним преданности и своем отчаянии по поводу того, что случилось. Густав выказывал необыкновенное упорство. Он то и дело повторял:
— Что я сделал, то сделал, что сказал, то сказал, и никогда не изменю сделанного мною и сказанного!
Наконец, решили на конфереции, что ратификация короля последует через два месяца, то есть после его совершеннолетия. Императрица дала понять, что теперь делать больше нечего и что она не задерживает гостей своих в Петербурге. Отъезд их был назначен.
Так как прямого разрыва не было и все еще толковали о том, что дело может уладиться, то были соблюдены всякие любезности: обменялись богатыми подарками. Однако и тут Густав сделал непристойность. Он не только не поехал лично в Гатчину проститься с цесаревичем и великой княгиней, но даже не послал им прощального письма. Он только приказал секретарю шведского посольства Женнингсу съездить в Гатчину и словесно передать его прощальные приветствия. Ему ответили тоже словесно.
Но регент написал цесаревичу и великой княгине самые любезные, льстивые и даже трогательные письма. Цесаревичу он писал между прочим:
«Каковы бы ни были обстоятельства, я всегда пребуду вам предан и еще не отчаиваюсь иметь счастье обнять вас как родственника, вдвойне дорогого и уважаемого».
В письме к великой княгине заключались такие фразы:
«Как ни печальна для меня эта минута, я, однако, не теряю надежды видеть вскоре осуществление моих желаний в счастливом союзе, который упрочит счастье двух наций; это будет предметом моих забот и целью всех моих желаний. Благоволите сохранить меня в вашей памяти. Эта драгоценная надежда будет единственной отрадой, которая одна может смягчить печаль, мною испытываемую в минуту удаления от вашей августейшей особы».
Ему ответили очень любезно, но несколько сдержанно.
Несмотря на все его уверения, его подозревали в неискренности решительно все, начиная с самой императрицы.
Наконец, шведы уехали. Великая княжна бродила как тень, на нее жалко было смотреть. Цесаревич замкнулся в Гатчине. Императрица чувствовала себя очень нехорошо и почти не выходила из своих комнат. Зубов был взбешен до крайних пределов. К нему все это время никто не мог подступиться. Уже не говоря о том, что он ошибся в расчетах, так как на следующий день после обручения должен был получить звание фельдмаршала, он наедине с самим собою сознавал свою ошибку, чувствовал себя униженным этим нежданным фиаско, которое потерпел его дипломатический гений. Он должен был во что бы то ни стало свалить свою вину на кого-нибудь. Должен был оправдать себя в глазах императрицы. И вот он вспомнил слова Безбородки о том, что это дело, наверно, было заранее подготовлено, — и занялся исследованиями. Он напал на следы сношений регента с Витвортом, и вдруг неожиданная для него мысль пришла ему в голову. Он вспомнил еще о чем-то или, вернее, о ком-то. Глаза его злобно блеснули. Он позвал Грибовского и дал ему какое-то таинственное поручение.