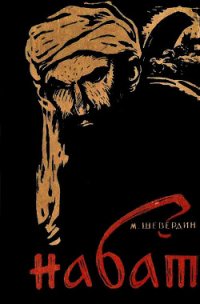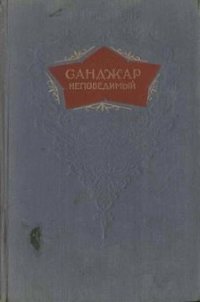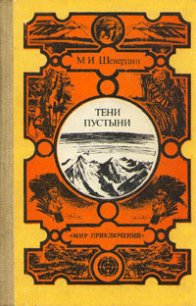Набат. Книга вторая. Агатовый перстень - Шевердин Михаил Иванович (версия книг txt) 📗
Хитрейшая мина появилась на физиономии Амирджанова. Он закатил глазки и проговорил сладко:
— О досточтимый святой отец, друг наш доктор встретился мне в горах...
— Позвольте, — перебил Пётр Иванович, — друг мой Амирджанов взволнован, и я боюсь, что он просто не сумеет рассказать, что случилось вчера и сегодня ночью. И на какие темы мы побеседовали мирно и тихо, и как любезно и вежливо обращался со мной мой старый друг Амирджан.
— Позвольте мне, — заговорил снова Амирджанов.
— Нет, я хочу послушать доктора, а ты молчи, — резко сказал ишан, — каждый сосуд выпускает то, что содержит, а душа ренегата переполнена ложью.
Читатель не посетует, если мы в традициях восточного романа позволим себе вернуться назад и описать сцену, происходившую накануне в одинокой юрте.
Петру Ивановичу никогда не изменяло самообладание. С туго стянутым арканом, с вывернутыми до боли за спину руками, с саднящей раной на темени, с ноющими ногами, он всё не потерял способности наблюдать. Экое живучее существо человек. До последней секунды изволит думать, а мозг привычно сравнивает, заключает, обобщает и даже иронизирует. Экая образина... Пётр Иванович даже закрыл глаза, припоминая, где и когда «имел честь» (он так и подумал «имел честь») встречаться с этим типом, имевшим столь отталкивающую, но очень характерную физиономию. Большущий, глядящий на мир круглыми ноздрями нос с переносицей шириной в два пальца, плоский, все время шевелящийся, растягивает бледные скулы. Какое-то поразительное уродство никак сразу не осознавалось в лице Амирджанова. Возможно потому, что верхняя часть головы его пряталась в тени и только подбородок был освещен. С минуту подумав, доктор понял, в чём дело. У Амирджанова почти не было лба. Над сияющими в отсветах костра багровыми эровями почти сразу же за парой складок кожи начиналась давно не бритая щетина. Волосы у него росли чуть ли не от бровей. «Снять с него роскошную кисейную чалму, а самого в клетку. Вот вам и шимпанзе. В хорошие же руки попали вы, многоуважаемый доктор медицинских наук. Приятная неожиданность!» — думал Пётр Иванович, пытаясь придать такое положение телу, при котором веревки не так сильно врезались бы в него,
— Представь себе, дорогуша, мальчик «нежный, кудрявый», — самодовольно повествовал Амирджанов, — окружён я был роскошью родового име-ния в семьсот десятин, вниманием. Эдакий «маленький лорд Фаунтлерой!» Питался фазаньими крылышками, ананасами и смазливенькими горничными. Швейцария, Париж, гувернеры. И вдруг — трах! Папенька прокутил состояние. Роскошное пензенское имение с молотка, всё к чёрту! И «лорда Фаунтлероя», пожалуйте бриться, окунают в житейскую прозу, мещанскую обстановку. Гимназия, грубая пища, постные лица тётушек-скопидомок. Разочарование, озлобление «лорда Фаунтлероя», аристократа духа, сверхчеловека и — трах-тарарах! — с небес в грязь «расейской обыденности». Тогда уж под ударами судьбы усвоил, дорогуша, закон жизни, — чтоб не засосало болото, стань на плечи соседа и, с богом, выбирайся, не оглядываясь! И выбрался. Помнишь, друг Петенька, наши студенческие годы. Идеалы, споры до хрипоты. Сияющие невинностью и восторгом глазки курсисток. Ты умел жить на гроши. Скажешь — я получал из дома в десять раз больше, чем любой состо-ятельный студент, по урокам не бегал, не голодал. О наивность! А рестораны, а девочки, а карты! Пусть всякая мразь ползает внизу, а я — я выше всех умом. И неужели, думал я, одного умного не прокормят сотни тысяч дураков? Ха, ха помнишь, дорогуша, скандал с денежками нашей кружковой кассы. Ха! Как исключили этого балбеса Петрова, бойкот ему объявили, просто-филю до петли довели.
— Так это ты запустил туда лапу... мерзавец! — Отвращение душило доктора, и он едва смог выдавить из себя эти слова.
Странный разговор происходил в одинокой юрте. Доктор со связанными руками сидел в неудобной позе, привалившись к решётчатой стене юрты. Амирджанов быстро ходил, приседая, своей крадущейся походкой неслышно на кошме. Яркий дневной свет врывался вместе с горячим пряным воздухом степи через широко открытую дверь.
— Ругайся, ругайся, облегчай свою душу, милый мой друг Петенька. Да, это я. Понимаешь, хочется, чтобы ты отправился на тот свет не раньше, чем поймешь простую истину. Честность, благородство, высокая любовь в нашем подлунном мире — чепуха, глупость. Побеждают хитрые, сильные, умные. Побеждают сверхчеловеки. Белокурые бестии, не стеняющиеся ни средствами, ни способами. Всегда ты мозолил глаза своим... ха... благородством. Так вот пойми: твоего благородства не хватило, чтобы сохранить свою шкуру. Сейчас я закончу свою мысль, и потом... Наслаждаться тебе жизнью, бытием осталось, скажем, пятнадцать минут... а потом — чик-чирик... вот этот чай, что кипит в кумгане, буду пить я, а не ты... Ха, тебя уже не будет, дорогой...
— Долго ты будешь болтать, мерзавец?! Ренегат, червяк.
— О, я давно знал, что я мерзавец. И горжусь, что мерзавец. Я выше там всяких обыденных чувств. Ха. Я помогал оболтусу Петрову надевать петлю на шею, ободрял его, беднягу, доказывал, что другого выхода у нас нет... Ха, мир праху его!
— Какая скотина!
— Раз ты ругаешься, значит страдаешь. А мне это приятно. Ругайся, ругайся. А помнишь золотоглазую Лизочку? Приятная девочка была. Круглень-кая, аппетитная, розовенькая там под платьем. Все вы сохли по ней. Поклонялись. Стишки сочиняли. Дурачьё! А мне всё удозольствие обошлось в двести целковых. Небесная невинность, красотка, идеалы красоты, святая Цецилия — двести рублей и... постель! А когда этот идеал чистоты в результате обычного физиологического акта, изволите видеть, прозаически... забеременел, а к тому же я заразил её прекрасной болезнью и бедненькая Цецилия предалась отчаянию, кто, как не я, помог Лизаньке ликвидировать последствия своего легкомыслия!
— Ты шизофреник... параноик... — с трудом проговорил доктор. — Зачем ты всё это рассказываешь?..
— Шизофреник? Э, нет! Я нормален, как только может быть нормален человек. Чтобы ты понял, милый друг, кто я есть. Я есть я! Я есть личность. Идеалы! У меня идеал один — я. Мой покой, моя жизнь, мои наслаждения —вот мой идеал. Ты вот распространялся там, пока мы ехали по горам, о мужестве, о народе, об этих грязноруких пролетариях в кепке, о советской власти. Э, у нас есть еще время. — Амирджанов подошёл к костру и заглянул в кумган. — Не кипит ещё, а вот закипит, и тогда, извините, дорогой друг, придётся отправить тебя к праотцам... ты встал на моём пути и пеняй на себя... Нам тесно в мире... Ты и я! Я и ты! Ты мешаешь мне. Мне придётся ещё якшаться с большевиками, так, для определённых целей, а ты полезешь с разоблачени-ями. И потом — ты мой враг. Ты интеллигент, изменивший своему классу, ты ренегат. И я обязан тебя истребить... Советская власть мне всё испортила. Только маменька моя получила наследство... О, это целая история. Получила маменька наследство — я к ней. Так и так, маменька. Ты уже старенькая, папенька старенький. Пожалуйте денежки мне. А она и заупрямься: «Нет, сыночек, вот война с немцем кончится, мы снова имение выкупим, то да сё». Сколько я трудов потратил, сколько хитросплетений изыскал, и...
— Твоя мать погибла под колесами поезда… — вдруг заговорил доктор, — так это тоже ты...
В тоне доктора произошла перемена. Лицо его оживилось. Точно новая какая-то мысль пришла ему в голову. Но Амирджанов ничего не заметил. Он продолжал расхаживать по юрте всё быстрее и быстрее, порой начиная усиленно жестикулировать.
— Неужели ты ещё и... — продолжал доктор несколько нарочито возбуждённым тоном.
— И матереубийца... хочешь сказать. Зачем такие громкие слова. Ты медик, физиолог. Разве ты не знаешь: функция отца кончается зачатием. Функция матери — родами, ну ещё кормлением младенца молоком... Мать — громкое слово, выдуманное стариками, чтобы держать человечество в повиновении, в цепях родственных обязательств. Однажды мы ехали в вагоне, и я изложил родительнице свою точку зрения, чтобы у неё не оставалось никаких иллюзий...