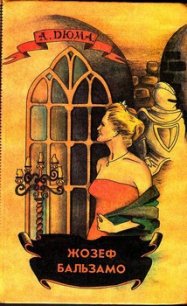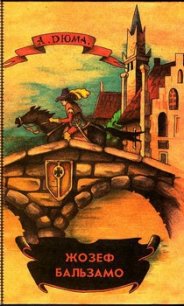Графиня де Шарни. Том 1 - Дюма Александр (электронная книга txt) 📗
— Простите меня, доктор, но я не вполне вас понимаю, — признался Мирабо.
— Позвольте, вам не приходилось слышать о лихорадке, которую насылают Понтийские болота? Разве вы не знаете, по крайней мере понаслышке, о смертоносных миазмах, которые исходят из тосканских трясин? Не читали у флорентийского поэта о смерти Пии деи Толомеи?
— Отчего же, доктор, все это мне известно, но как светскому человеку и поэту, а не как химику и врачу. Кабанис, когда мы виделись с ним в последний раз, толковал мне о чем-то подобном по поводу зала в Манеже, где мы всегда скверно себя чувствуем; он даже утверждал, что если я во время заседания не выйду три раза в сад Тюильри подышать свежим воздухом, то отравлюсь и умру.
— И Кабанис был прав.
— Не могли бы вы объяснить мне, в чем тут дело, доктор? Вы бы меня весьма этим порадовали.
— В самом деле?
— Да, я недурно знаю греческий и латынь; за четыре или пять лет, которые я в общей сложности провел за решеткой благодаря щепетильности отца, озабоченного общественным мнением, я неплохо изучил античность. Используя пропадавшее втуне время, я даже написал непристойную книгу о нравах этой самой античности, вполне, впрочем, достоверную с ученой точки зрения. Но я понятия не имею, каким образом можно отравиться в зале Национального собрания, если только вас не укусит аббат Мори или вы не прочтете листок господина Марата.
— Что же, я вам расскажу об этом; быть может, мои объяснения покажутся несколько сложны человеку, в скромности своей признающему, что он не слишком силен в физике и несведущ в химии. Тем не менее постараюсь говорить как можно понятнее.
— Говорите, доктор, никогда у вас не было более любознательного слушателя.
— Архитектор, выстроивший зал Манежа, — а архитекторы, любезный граф, к несчастью, так же, как вы, бывают никудышными химиками, — архитектор, выстроивший зал Манежа, не подумал о том, чтобы провести внутренние трубы, по которым удалялся бы испорченный воздух, или внешние, для впуска воздуха извне. Вот и получается, что одиннадцать сотен ртов, запертых в этом зале, вбирают в себя кислород, а выдыхают углекислые испарения; поэтому спустя час после начала заседания, особенно зимой, когда окна закрыты, а печи топятся, воздух становится непригоден для дыхания.
— В этом процессе мне хотелось бы разобраться хотя бы затем, чтобы рассказать о нем Байи.
— Это объясняется как нельзя проще: чистый воздух, такой, какой положено вдыхать нашим легким, то есть такой, каким мы дышим в помещении, одной стеной обращенном к востоку и расположенном вблизи проточной воды, иначе говоря, воздух, которым мы дышим в наиболее благоприятных условиях, состоит из семидесяти семи частей кислорода, двадцати одной части азота и двух частей так называемых водяных испарений.
— Превосходно! Покуда я вас понял и записываю ваши цифры.
— Ладно, слушайте дальше: венозная кровь, темная и насыщенная углеродом, поступает в легкие, где она должна восстановиться благодаря соприкосновению с наружным воздухом, то есть с кислородом, который при вдохе извлекается из свежего воздуха. Здесь происходит явление двоякого рода, которое мы обозначаем словом .гематоз.» Кислород, соприкоснувшись с кровью, соединяется с ней, меняет ее темный цвет на алый и дает ей частицу жизни, необходимую каждому организму; одновременно углерод, взаимодействуя с частью кислорода, превращается в углекислоту, или двуокись углерода, и выдыхается наружу, в процессе выдыхания смешавшись с некоторым количеством водяных испарений. И вот этот-то чистый воздух, который мы вбираем в себя при вдохе, и испорченный воздух, который мы выдыхаем, в закрытом помещении создают такую атмосферу, которая не только не годится для дыхания, но может произвести самое настоящее отравление.
— Что же, по вашему мнению, доктор, я уже наполовину отравлен?
— Безусловно. Именно от этой причины происходят все ваши внутренние боли; разумеется, к отравлению, полученному в зале Манежа, добавляется и то, которое вы перенесли в Архиепископском зале, и в башне Венсенского замка, и в форте Жу, и в замке Иф. Разве вы не помните: госпожа де Бельгард говорила, что в Венсенском замке есть одна камера, действующая не хуже доброй дозы мышьяка?
— И что же, милый доктор, бедное дитя оказалось полностью в том состоянии, в каком я пребываю лишь наполовину: оно отравлено?
— Да, дорогой граф, и отравление повлекло за собой пагубную лихорадку, которая гнездится в мозгу и в мозговых оболочках. Эта лихорадка развилась в хворь, которую в обиходе называют мозговой горячкой, а будь на то моя воля, я присвоил бы ей новое имя: я бы окрестил ее, если угодно, острой водянкой головы. Отсюда и конвульсии, отсюда и опухшее лицо, и синие губы; отсюда и судорожно сжатые челюсти — это бросается в глаза; отсюда закатывающиеся глазные яблоки, неровное дыхание, неровный пульс и шумы в сердце и, наконец, липкий пот, выступающий по всему телу.
— Черт побери, дорогой мой доктор, от вашего перечисления прямо-таки бросает в дрожь! Право, когда я слышу, как лекарь сыплет медицинскими терминами, это для меня все равно что читать какой-нибудь кляузный документ на гербовой бумаге: мне начинает казаться, что самое приятное из того, что меня ждет, — это смерть. А что вы прописали бедному мальчику?
— Самое энергичное лечение; и спешу вам сообщить, что один или два луидора, завернутых в рецепт, дадут матери возможность выполнит все назначения. Холодные компрессы на голову, припарки к конечностям, рвотное, отвар хины.
— Вот как! И неужели все это не поможет?
— Если не поможет сам организм, пользы от всего этого будет немного.
Я прописал все это лечение для очистки совести. Остальное довершит ангел-хранитель этого ребенка, если только он у него есть.
— Гм! — вырвалось у Мирабо.
— Вы поняли, не правда ли? — спросил Жильбер.
— Вашу теорию отравления окисью углерода? Более или менее понял.
— Нет, я не о том; я имею в виду другое: вы поняли, что воздух замка Маре вам не годится?
— Вы полагаете, доктор?
— Я убежден в этом.
— Весьма досадно, потому что сам замок совершенно меня устраивает.
— Как это на вас похоже: вы воистину враг самому себе! Я советую вам возвышенность — вы выбираете низину; я предписываю вам проточную воду, вас манит стоячая.
— Зато какой парк! Вы только посмотрите на эти деревья, доктор!
— Поспите одну ночь при открытом окне, граф, или прогуляйтесь после одиннадцати вечера в тени этих прекрасных деревьев, а на другой день расскажете мне, что у вас новенького.
— Значит, из отравленного наполовину, как сейчас, на другой день я превращусь в совершенно отравленного?
— Вы просили меня сказать правду?
— Да, и вы мне ее сказали, не правда ли?
— Да, голую правду. Я знаю вас, мой дорогой граф. Вы стремитесь сюда, чтобы убежать от мирской суеты, но суета настигнет вас и здесь: каждый влачит за собой свою цепь, железную, золотую или цветочную. Ваша цепь это ночью наслаждение, а днем работа. Пока вы были молоды, сладострастие служило вам отдохновением от трудов; но дни ваши истощены трудами, а ночи сладострастием. Вы сами сказали мне вашим выразительным, красочным слогом, что чувствуете, как из летней поры перешли в осеннюю. А поскольку, дорогой граф, вследствие избытка ночных наслаждений и дневных трудов мне необходимо бывает отворить вам кровь, то подумайте сами: после этого во время неизбежного упадка сил вы будете особенно подвержены действию нездорового воздуха, который ночью исходит от этих больших деревьев в парке, а днем — от миазмов стоячей воды. И тогда уж — чего вы хотите! — вас окажется двое против меня одного; причем оба сильнее меня: вы и природа. Меня ждет неизбежное поражение.
— Так вы полагаете, милый доктор, что меня сведет в могилу болезнь потрохов?.» Черт побери, вы меня изрядно этим огорчаете. Внутренние болезни мучительны и долго длятся! Я предпочел бы какой-нибудь сокрушительный апоплексический удар или, например, аневризму. Не могли бы вы мне это обеспечить?