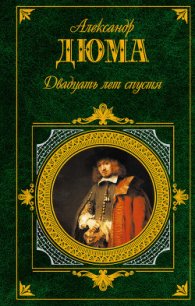Инженю - Дюма Александр (книги полностью бесплатно .TXT) 📗
Отныне Оже был уверен в победе; когда он ушел, Ретиф достал свой синий редингот и отправился проведать Ревельона.
Вот и пришло время, чтобы мы тоже нанесли визит этой жертве революции, той революции, которую двор сначала очень хотел, но потом не смог остановить.
Ревельон, полностью разоренный, переносил горе как мудрец.
Теперь он находил утешение даже у своих бывших противников.
Несчастье пробудило к нему интерес: республиканцы — мы просим у наших читателей прощение за то, что употребляем это слово, еще неизвестное в апреле 1789 года, — республиканцы, повторяем, были взволнованы тем, что двор нанес удар этому лжепатриоту.
Поэтому Сантер приютил несчастного и его семью.
В предместье Сент-Антуан гостеприимство Сантера многое значило.
Пивовар жил на широкую ногу; гордясь богатством, заработанным собственным трудом, он находил ему столь же благородное применение, как если бы сам был одним из расточительных аристократов эпохи.
Лошади, собаки, люди — все у него были сильные, сытые и здоровые.
Новый дом, обильный стол, приветливое лицо хозяина, возможность свободно дышать — вот что люди находили у Сантера.
К сожалению, у него они также находили чрезмерно много споров о политике, но это тогда было в моде.
Считалось верхом изысканности рассуждать о политике и реформе.
Об этом много рассуждали господа де Лафайет и Ламет, об этом также много рассуждали королева и граф д'Артуа.
О политике говорили так часто, что отдельные люди пожелали перейти от слов к делу, и, когда все пришло в движение, многие последовали их примеру и перестали рассуждать.
Итак, мы сказали, что Ревельон с дочерьми нашел приют у Сантера. Сначала пивовар сделал самое неотложное: оценил причиненный Ревельону ущерб.
Чтобы все восстановить, нужны были не только деньги, но и время, хотя, кроме времени, требовалось еще и мужество.
Извлекая в политических целях выгоду из беды Ревельона и пользуясь симпатией его единомышленников, можно было вновь составить состояние несчастному обойному фабриканту.
Сантер предложил деньги — это было все, что он мог сделать.
Однако Ревельон, согласившись принять у Сантера кров и стол ради того, чтобы его дочери были в безопасности, в тихом месте (в те времена люди еще оказывали друг другу гостеприимство), заупрямился, как только в его душе пробудился негоциант.
Ему предлагали в долг двадцать тысяч ливров — это было прекрасно, но он, тем не менее, считал себя униженным.
Ревельон начал с отказа.
Потом он заявил, что двадцать тысяч ливров ничем ему не помогут; он сильно горевал о потере своего портфеля с ценными бумагами, а главным образом о том, что превратил в наличные деньги свою годовую прибыль.
Но разве все это не сожжено, не разграблено и, значит, потеряно безвозвратно?
Потери Ревельона достигали такой значительной суммы, что по сравнению с ней двадцать тысяч ливров представляли собой сущий пустяк.
Сантер это понял и, уязвленный до глубины души, настаивать не стал.
Тем не менее на его лице были написаны те чувства, какие только и могли быть на нем, то есть полные доброты и снисходительности к несчастному гостю.
В такую атмосферу и попал Ретиф, вынужденный нанести визит пивовару, чтобы встретиться с Ревельоном.
Кстати, Ретиф и Сантер всегда поддерживали прекрасные отношения. Пивовар обычно стремился заручиться поддержкой всех тех людей, кто в Париже умело обращается с пером, а Ретиф писал слишком оригинально, чтобы на него не обратил внимание сторонник нововведений Сантер.
И Ретиф был уверен, что его хорошо примут у Сантера в двойном качестве. Во-первых, как несчастного отца, ибо о его горе прослышали самые тугоухие люди в Париже; во-вторых, как преследуемого патриота, поскольку на его долю выпал самый страшный эпизод гонения на Ревельона.,
Обойный фабрикант очень изменился: потеря состояния сильно состарила его. Он посмотрел на Ретифа и не заметил на лице романиста такой скорби, что бросалась в глаза на его собственном лице.
Отсюда Ревельон вполне логично мог заключить, что потеря пятисот тысяч ливров намного тяжелее потери единственной дочери.
Сантер, поговорив с ними немного, ушел; дочери Ревельона, умильно пустившие слезу при воспоминании о подруге, тоже удалились.
После этого между Ретифом и Ревельоном начался серьезный разговор.
— И как вы думаете выходить из положения, в которое вас поставили? — спросил Ретиф.
— Черт возьми, начну все сначала, — ответил фабрикант.
— А как ваши враги?
— Теперь их у меня меньше, чем друзей.
— Это верно.
— Когда я снова открою свой магазин, все мои враги явятся ко мне за покупками, чтобы взглянуть на меня.
— Вы правы.
— Что касается друзей, то, поскольку ни один из них не посмеет подать мне милостыню, все они непременно принесут мне свои деньги, кто купив рулон обоев, кто — ширму для камина… Если в Париже я, по моим расчетам, имею…
— … двести тысяч друзей… — подхватил Ретиф.
— Почти… то к концу года у меня будет сто тысяч ливров.
— Целое состояние! — воскликнул романист.
— Пустяки! — презрительно вскричал фабрикант. — Это только начало.
— Я прекрасно понимаю, господин Ревельон, что вы заработаете больше ста тысяч ливров; но второе состояние, которое наживают, никогда не равно первому, которое теряют.
— Увы, это так! Все дело в том, чтобы найти возможность составить второе состояние.
— Неужели вы потеряли все?
— Все!
— Ну, а кредит?
— Ерунда! Начинать надо не с этого; если я, ничего не имея, беру кредит, он будет таким пустяком, о котором я вообще предпочитаю не говорить; о кредите можно говорить лишь тогда, когда его размер того заслуживает.
— Но разве господин Сантер ничего вам не предлагал? — спросил Ретиф.
— Я ничего ни у кого не беру, — строго заметил Ревельон.
— И правильно делаете, — согласился романист. — Если вы снова встанете на ноги, то, по крайней мере, будете обязаны этим самому себе.
— Вы, один вы меня понимаете! — воскликнул Ревельон, пожимая Ретифу руку.
— Да, — сказал сочинитель. — Но каким образом вы сможете извлечь из вашего дела прибыль, если вы, наверно, не в состоянии вложить в него средства?
При этих словах лицо Ревельона омрачила тягостная мысль: его гордыня сменилась сожалением о том прошлом, когда он был богат.
Ретиф наблюдал за ним добрым, но вместе с тем испытующим взглядом.
Ревельон еще больше помрачнел, потом тяжело вздохнул: он был сломлен.
— Надейтесь, черт возьми! — вскричал Ретиф. — Надейтесь!
— Господин Ретиф, чтобы надеяться, необходимо прежде всего располагать первоначальным капиталом надежды, — сказал Ревельон, перебрав в голове все доводы собеседника.
— Сколько же приблизительно вам потребуется? — поинтересовался Ретиф.
— И не спрашивайте! Много.
— Но все-таки…
— Гораздо больше, чем есть у нас с вами, — ответил Ревельон с какой-то высокомерной горечью.
Ретиф в ответ слегка улыбнулся многозначительной улыбкой, но Ревельон не смог ее понять.
Это оказалось к лучшему для последующих глав нашей книги!
Тут вернулись дочери фабриканта, потом пришел Сантер и завязался общий разговор. Ретифу не оставалось ничего другого, как дать уговорить себя снова рассказать всю историю, выдуманную Оже, дополняя ее собственными замечаниями, и он ушел из дома Сантера, провожаемый сочувственными взглядами, как человек очень несчастный, но, тем не менее, потерявший в жизни всего-навсего дочь!
— Она обладала превосходными достоинствами, но не имела ни гроша приданого, — прибавил Ревельон, когда писатель ушел, — и это сделало бы ее очень несчастной, ибо ее муж Оже всю жизнь влачил бы жалкое существование.
В заключение он стал уверять всех, что Инженю, мертвая, неизмеримо более счастлива, что он не скорбит о ней и что Ретиф, когда утихнет первая боль, посмотрит на все здраво и больше не будет о ней горевать; тогда как у него, Ревельона, на руках две взрослые дочери, потерянное состояние и привычка жить на широкую ногу.