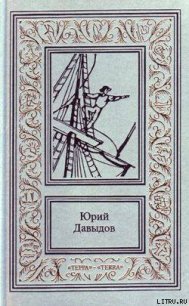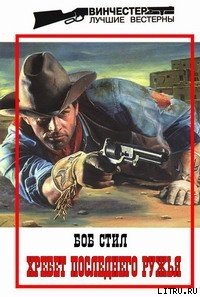Становой хребет - Сергеев Юрий Васильевич (прочитать книгу .TXT) 📗
Прознал через своих дружков, что негаданно свалил бомбой молодой казак троих офицеров, среди которых был отъявленный головорез, тридцатилетний полковник Аркадий Долинский. Оставшиеся в живых налётчики искали Парфёнова по всем кабакам и ночлежкам Харбина.
А он смекнул, что убегать сейчас куда опасней, чем затаиться, именно на дорогах его сейчас пасут бандиты. Убийство главаря они не простят.
Хозяин фанзы на окраине Саманного городка Ван Цзи объяснил соседям, что приносит еду, монгольскому ламе-паломнику, вернувшемуся из легендарной Лхасы, центра буддизма, и заболевшему в дороге.
Игнатий дурел от безделья. Наконец, не выдержала затворничества широкая натура. Попёрся в город в монашеском одеянии, размахивая чётками, как пращой.
В одном из магазинов переоделся в щегольской костюм, плащ, купил на барахолке трость с серебряным набалдашником, новенький цилиндр в ломбарде и подкатил на пролётке к дверям русского ресторана.
Решил испытать «маскарад» на проницательном генерале-каторжанине. Швейцар, ослеплённый пикантным видом гостя и щедрыми чаевыми, не узнал Парфёнова. Отлегло от сердца. Но ещё долго Игнатий носил за поясом холодящий живот пистолет.
Особо не шиковал, сдерживал разгульный зуд, готовился к весеннему походу. В кабаке его в тот же вечер и охмурила состоятельная дама, имеющая свой магазин и лаковый автомобиль «Форд».
Прижился в роли альфонса в её богатом доме, наловчился бриться каждый день, брызгаться едучим одеколоном и распивать по утрам противный до икоты кофе.
Хозяйка, дебелая и разнаряженная немка, вдова залётного коммерсанта, методично и нудно приучала диковатого мужика к западной культуре, но брать его с собой на званые вечера в светское общество не решалась.
Парфёнов пропадал у знакомого японца, свободно владеющего русским языком, дивился многим книгам и свиткам древних рукописей в его доме, рассказам о путешествиях по диковинным странам и переломам судьбы.
Через него купил отдельный дом, окружённый высоким глинобитным дувалом, стаскивал туда оружие, сводил лошадей.
Японец был ещё крепкий и мудрый старик. Многие годы он прожил в Индии, России и даже Америку исколесил вдоль и поперёк, заимел в тихом районе Харбина огромную виллу, обставленную в японском стиле, окружённую крепостной стеной из красного кирпича.
Внутри усадьбы традиционный садик с ручными журавлями — он так искусно сделан, что Игнатий, повидавший виды в своих скитаньях по тайге, изумлённо разглядывал каменные мостики, рукотворные водопады, прудики, казавшиеся сотворёнными самой природой.
Под широким навесом — усыпанная мелким песком площадка для занятий борьбой. Игнатий не раз присутствовал на тренировках, которые вёл японец с несколькими молодыми парнями.
К весне приискатель, захворав несдержимой тоской, удрал от своей сожительницы. Лихорадочно паковал вьюки и с нетерпением ждал условного дня, сомневаясь, явится ли его спаситель.
Всё больше наливалось солнце теплом, а душа — непокоем. Игнатий тщательно оборачивал новые кайла лентами толстой материи с ворсом, нужной на промывке для улавливания золота. По десять раз перекладывал снаряжение во вьюках и опять шёл к приветному японцу скоротать время.
Они играли в го — японские шашки, беседовали о России, пили подогретую рисовую водку и крепкий чай, завариваемый слугой по особому индийскому рецепту.
Старика интересовало абсолютно все: реки, золотые прииски, фамилии золотопромышленников, названия горных хребтов и духов кочевых эвенков, какой где растёт лес.
Всё это он быстро записывал кисточкой на полосках рисовой бумаги и говорил Игнатию, что пишет книгу. Незадолго до срока Парфенов залёг в спячку.
6
Когда Егор покидал постоялый двор, то почувствовал радостное облегчение. Город подавил его шумом, суетой, непонятными обычаями. Хотелось поскорее вырваться на волю и опять жить покойно на хуторе без ночной пальбы и страха.
Харитон Якимов с очугуневшим от запоя лицом, злой и хмурый, неистово стегал кнутом неповинных лошадей. Большая часть денег, вырученная от продажи скота, была с помощью сынов пропита.
В повозке звякали канистры с керосином, теснились узлы с купленными на барахолке обновами, поросятами вытянулись мешки с солью.
Пьяненькие Яков и Спирька играли на них в замусоленные карты под щелбаны. Верховые лошади трусили, привязанные к задку телеги.
На второй ночёвке подкрались к костру какие-то люди, и спасла хуторян только звериная осторожность бывшего есаула. Спал он особняком под телегой, завернувшись в свой монгольский тулуп.
Когда услышал всхрапы лошадей, вытащил из-за себя тяжелый «Льюис». Увидев ползущие к огню тени, хладнокровно подпустил их поближе и длинной очередью пригвоздил к земле. Казаки спросонья похватались за оружие и, откатившись подальше от света, дробно забухали из винтовок вслед конскому топоту.
До рассвета лежали, тихо матерясь, дрожа от холода. Только один Якимов мощно храпел под тулупом в обнимку с пулемётом. Утром осмотрели четверых хунхузов с остекленевшими глазами, у каждого из них был кривой нож, а в издальке разметали руки двое караульных.
Около них сиротился недопитый банчок спирта. Зарезанных казаков завернули в брезент, уложили поверх соли, и пьяный Яков спал с ними рядом.
Ехали домой хмуро и молча, каждый думал о своём. Изодранные северным ветром тучи волоклись по небу, парующие спины лошадей нахлестывал опостылевший дождь. Клятая чужбинушка стращала могильной безысходностью.
Мерещились на горизонте конные преследователи, руки хватались за влажные винтовки, и только одно утешение — жгущий нутро ханшин отгонял липкий страх, баюкал усталым сном. Егор нахохлился в седле, промокнув и прозябнув до костей.
Всё ещё слепил всполох ночного взрыва, а в ушах назойливо дребезжал последний крик убитого им человека. Сознание мутилось от непреодолимого раскаяния, ничто не радовало, эта боль всё саднила и саднила, отягощая сердце.
И когда Якимов зазвал в свой дом обсушиться, совсем по-другому, отчуждённо воспринял весёлую и расторопную Марфу. Она кинулась его раздевать, пригласила к столу, где исходила парком большая миска горячих пельменей.
Егор потушил холодным взглядом её улыбку, вспомнив залитую кровью попону осёдланной кобылы. Не чувствуя вкуса, жевал пельмени, молчал, пить совсем отказался. Впервые подумал, что бражничество надо бросать, кроме зла и больной головы оно ничего не подносит.
Пронька заторопил уезжать, да и сам Егор уже томился в этом доме. Марфа подошла к нему за воротами, в это время подтягивал он подпруги седла. Поглядывая на отъехавшего Проньку, заговорила, рдея щеками:
— Соскучилась я по тебе, Егорша, а ты, как чужой стал. Что стряслось?
И тут заметил он, какие у ней чёрствые, холодные глаза при тёплых речах, они, словно жили отдельно от разгорячённого лица, меркли кошачьим прищуром зрачки, то узились и становились колючими, то распахивались гибельной чернотой в опушье ресничной травы, пугали красным отражением заката.
— Да ничего не стряслось. Плата у тебя больно низкая, не по мне. Торгуйся с другими.
— Егорша, ты об чём?
— О том же, — он разобрал поводья и легко прянул в седло, — лошадь купца Яков пристрелил. Так что не бойся, не прознают, кто китайца в ихний рай спровадил.
Она закуталась в платок, усмехнулась и побледнела.
— Всё же, ты дурак! Ради тебя пошла на такое. А ты… ты-ы…
— Не верю! Так любовь не обретают. Покедова. Не об чём толковать нам с тобой. Прощевай!
— Гляди-ка! Осерчал-то как, — вдруг раскатилась Марфа нехорошим смешком, обкусывая губы, — ну и катись отсель! Такие бабы, как я, на дороге не валяются. Каяться ишо станешь.
— Валяйся, где вздумается и с кем пожелаешь, каяться не стану. Потушила ты во мне всё светлое на Белой реке. Телешом изгалялась передо мной, думала, на коленках подползу. Таким макаром люб не станешь, — и тронулся догонять брата.
— Что ты в этом деле разумеешь, сопляк! — крикнула ему вдогон слезливым голосом. — Пропади ты пропадом!