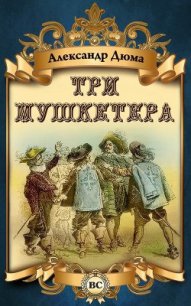Женская война (др. перевод) - Дюма Александр (читать книги онлайн бесплатно полностью TXT) 📗
Не смеем утверждать, что эти мысли родились в нем от угрызений совести. Нет, Ковиньяк был настроен слишком философски, чтобы ее иметь; но это было что-то похожее на угрызение совести, то есть чрезвычайная досада, что он сделал злое дело без всякой пользы. Со временем и если б обстоятельства удержали Ковиньяка в таком расположении духа, это чувство, может быть, имело бы все результаты угрызений совести; но времени недоставало.
Ковиньяк, войдя в комнату Каноля, с обыкновенной своей осторожностью ждал, чтобы офицер вышел. Потом, увидев, что дверь плотно заперта и окошечко в ней наглухо закрыто, подошел к барону, двинувшемуся, как мы уже сказали, навстречу ему, и ласково пожал его руку.
Несмотря на тяжесть своего положения, Ковиньяк не мог не улыбнуться, узнав молодого, изящного и веселого красавца, искателя приключений, которого он заставал два раза в совершенно ином положении: в первый раз, когда отправил его с поручением в Мант, а во второй, когда увез его в Сен-Жорж. Кроме того, он помнил, как однажды присвоил имя барона и как славно удалось обмануть этим герцога д’Эпернона. И какую бы тоску ни нагоняла на него тюрьма, воспоминание показалось ему таким веселым, что прошедшее на секунду одержало верх над настоящим.
С другой стороны, Каноль тотчас вспомнил, что имел случай два раза видеть Ковиньяка и что в обоих этих случаях Ковиньяк приносил ему добрые вести. Потому барон почувствовал еще большее сострадание к несчастному, думая, что смерть Ковиньяка неизбежна только потому, что хотят обеспечить спасение Каноля. В его благородной душе такая мысль возбуждала более угрызений совести, чем настоящее преступление возбудило бы их в душе его товарища.
Поэтому барон принял его очень ласково.
— Что, барон, — спросил Ковиньяк, — что скажете вы о положении, в котором мы находимся? Оно кажется мне не очень-то надежным.
— Да, мы в тюрьме, и Бог знает, когда выйдем из нее, — отвечал Каноль, собрав все самообладание и стараясь, по крайней мере, усладить надеждой последние минуты товарища.
— Когда мы выйдем! — повторил Ковиньяк. — Хорошо бы Господь, которого вы призываете, явил это свое милосердие как можно позже. Но не думаю, что он расположен дать нам много времени. Я видел из своей камеры, как и вы могли видеть из вашей, что буйная толпа бежала в ту сторону, к эспланаде, или я сильно ошибаюсь. Вы знаете эспланаду, любезный барон, знаете, что там бывает?
— Вы видите все это в слишком темном свете, мне кажется. Да, толпа бежала на эспланаду, но там, верно, производилось какое-нибудь наказание солдат. Помилуйте! Не может быть, чтобы нас заставили расплачиваться за смерть Ришона! Это было бы ужасно: ведь мы оба неповинны в его смерти.
Ковиньяк вздрогнул и бросил на Каноля взгляд, в котором сначала выразился ужас, а потом непритворное сострадание.
«Вот, — подумал он, — вот еще один человек, который совсем не понимает своего положения. Надобно, однако ж, сказать ему, в чем дело, зачем обманывать его надеждой, ведь от этого удар покажется ему еще ужаснее. Если успеешь приготовиться, так падение не так уж страшно».
Потом, помолчав и немного подумав, он сказал Канолю, взяв его за обе руки и не спуская с него глаз:
— Сударь, потребуем-ка бутылку или две доброго бронского вина, знаете? Ах! Я попил бы его, если б подольше остался комендантом, признаюсь вам, страсть моя к этому чудесному вину заставила меня выпросить комендантское место в этой крепости. Бог наказывает меня за чревоугодие.
— Охотно, — отвечал Каноль.
— Да, я вам все расскажу за бутылкой, и если повесть будет неприятна, так вино будет хорошо, и одно прогонит другое.
Каноль постучал в дверь, но ему не отвечали, он принялся стучать еще сильнее, и через минуту ребенок, игравший в коридоре, подошел к заключенному:
— Что вам угодно?
— Вина, — отвечал Каноль, — скажи отцу твоему принести нам две бутылки.
Мальчик ушел и потом через несколько минут вернулся.
— Отец мой, — сказал он, — теперь занят и разговаривает с каким-то господином. Он сейчас придет.
— Позвольте, — сказал Ковиньяк Канолю, — можно мне задать мальчику один вопрос?
— Извольте.
— Друг мой, — сказал Ковиньяк самым вкрадчивым голосом, — с кем разговаривает твой отец?
— С высоким мужчиной.
— Мальчик очень мил, — сказал Ковиньяк Канолю. — Погодите, сейчас мы что-нибудь узнаем. А как одет этот господин?
— Весь в черном.
— Черт возьми! Весь в черном, слышите! А как зовут этого высокого господина в черном? Не знаешь ли случайно его имени, миленький друг наш?
— Его зовут господином Лави.
— Ага, это королевский адвокат, — сказал Ковиньяк, — кажется, от него мы не можем ожидать ничего дурного. Пусть они разговаривают, мы тоже потолкуем.
Ковиньяк подсунул под дверь монету и сказал мальчику:
— Вот тебе, дружок, купи себе шариков… Надо везде находить себе друзей! — прибавил он, распрямляясь.
Мальчик с радостью взял монету и поблагодарил арестантов.
— Что же? — сказал Каноль. — вы говорили мне, сударь…
— Ах да, — ответил Ковиньяк, — я говорил… мне кажется, вы очень ошибаетесь насчет участи, которая ожидает нас при выходе из тюрьмы. Вы говорите об эспланаде, о наказании солдат, о порке каких-то посторонних нам людей. А у меня сильное искушение думать, что дело идет именно о нас и о чем-нибудь поважнее обыкновенного солдатского наказания.
— Полноте!
— Ха! — возразил Ковиньяк. — Вы смотрите на дело не так мрачно, как я. Это, может быть, потому, что вы не столько должны бояться, сколько я. Впрочем, не слишком обольщайтесь своим положением: оно тоже далеко не блестящее, подумайте сами. Но оно не имеет никакого влияния на мое, а мое — я должен признаться, потому что убежден в этом, — мое-то чертовски плохо. Знаете ли, сударь, кто я?
— Вот странный вопрос! Вы капитан Ковиньяк, комендант Брона, не так ли?
— Да, в эту минуту так; но я не всегда носил это имя, не всегда занимал эту должность. Я часто менял имена, пробовал различные должности, например, один раз я называл себя бароном де Канолем, ни дать ни взять, как вы…
Каноль пристально посмотрел на Ковиньяка.
— Да, — продолжал Ковиньяк, — я понимаю вас: вы думаете, что я сумасшедший, не так ли? Успокойтесь, я в полном рассудке, и никогда еще не было во мне столько здравого смысла.
— Так объяснитесь, — сказал Каноль.
— Это очень легко. Герцог д’Эпернон… Вы знаете герцога д’Эпернона, не так ли?
— Только по имени, я никогда не видел его.
— И это мое счастье. Герцог д’Эпернон встретил меня один раз у одной дамы, которая принимала вас особенно милостиво — я это знал, — и я решился занять у вас ваше имя.
— Что хотите вы сказать, сударь?
— Потише, потише! Разве вы такой эгоист, что ревнуете одну женщину в ту минуту, как женитесь на другой? Впрочем, если б вы даже вздумали ревновать, что в натуре человека, который решительно прескверное животное, вы сейчас простите меня. Я слишком близкий ваш родственник, чтобы мы могли ссориться.
— Я ни слова не понимаю из всего, что вы говорите мне, сударь.
— Говорю, что имею право, чтобы вы обращались со мною как с братом, по крайней мере, как с шурином.
— Вы говорите загадками, и я все-таки не понимаю.
— Одно слово, и вы все поймете. Мое настоящее имя Ролан де Лартиг. Нанон — сестра мне.
Каноль тотчас перешел от недоверчивости к самой дружеской откровенности.
— Вы брат Нанон! — вскричал он. — Ах, бедняга!
— Да, да, именно бедняга! — продолжал Ковиньяк. — Вы произнесли именно настоящее слово, вложили палец в рану. Кроме тысячи неприятных вещей, которые непременно откроются из следствия во время моего процесса, я имею еще несчастье называться Роланом де Лартигом и быть братом Нанон. Вы знаете, что господа бордосцы не очень жалуют мою прелестную сестрицу. Если узнают, что я брат Нанон, так я втройне погиб, а ведь здесь есть Ларошфуко и Ленэ, которые все знают.
— Ах, — сказал Каноль, возвращенный этими словами к воспоминаниям о прошедшем, — теперь понимаю, почему бедная Нанон в одном письме называла меня братом… Она — изумительный друг!