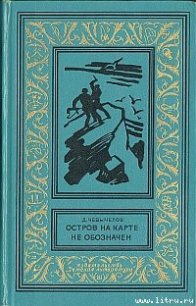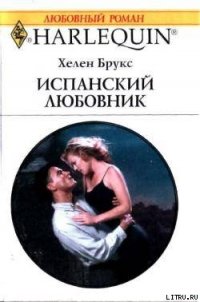Сумерки - Глуховский Дмитрий Алексеевич (бесплатная регистрация книга TXT) 📗
Первый посвятил целый разворот в "Коммерсанте" проекту грандиозного монумента, одобренного на днях московским правительством. Трёхсотметровый бронзовый самолёт "Ла-5" времён Великой Отечественной было решено установить на смотровой площадке на Воробьёвых горах в память о лётчиках-героях, оборонявших столицу от фашистских коршунов в ходе битвы под Москвой. Фашистские коршуны даже не были заключены в кавычки, что заставило меня поморгать и перечитать фразу заново. Уникальная конструкция памятника, предложенная ведущим британским скульптором, была такова, что бронзовый истребитель мог почти целиком парить над спокойно спящим городом. В статье отдельно подчёркивалось, что в тени его гигантских крыльев оказывалась площадь в несколько квадратных километров, а в фюзеляже предусматривался просторный выставочный зал и даже несколько аудиторий для студентов МГУ, где им будут читаться лекции по истории Второй Мировой. Воздвигнуть монумент планировалось в течение одного года, и необходимые средства уже были собраны среди патриотически настроенных представителей крупного бизнеса.
Вторая статья рассказывала о прошедшей накануне торжественной церемонии открытия мемориального музея Валентины Анисимовой (Кнорозовой), для которого на месте снесённых исторических особняков в одном из московских переулков по специальному проекту было возведено впечатляющего вида здание.
Вначале я небрежно пропустил заметку, продолжив жадно прочёсывать газету в поисках скрытых знамений Рагнарёка, однако вскоре под ложечкой начало тревожно тянуть, и пальцы сами собой пролистали страницы в обратном порядке.
Фамилия "Кнорозова", определённо, встречалась мне раньше... Актриса театра кукол, "самоотверженно посвятившая всю свою жизнь творчеству и семье", судя по опубликованной фотографии, через десять лет после смерти удостоилась мавзолея немногим более скромного ханойской усыпальницы Хо Ши Мина. С болезненным любопытством прочитав статью, я удостоверился, что тело Кнорозовой хотя бы не покоилось в хрустальном гробу посреди музея, который репортёр ничтоже сумняшеся назвал "храмом памяти великой актрисы"; и без того уже попахивало культом личности.
Среди разделов, открытых для посетителей, имелась обширная экспозиция кукольных героев, "в которых Анисимова вдохнула жизнь", фотовыставки "Школа" и "Молодые годы", а также "Семейные архивы", досконально задокументировавшие её многолетний брак с неким Юрием Кнорозовым, учёным-этнологом, изучавшим народы Мезоамерики. История её жизни показалась мне донельзя банальной, и как отчаянно я ни тёр виски, понять, чем именно Анисимова заслужила такое подобострастное отношение со стороны московских властей, у меня так и не вышло.
В то же время меня не покидало ощущение, что заметка о музее Анисимовой неслучайно приковала к себе моё внимание. Настороженно и внимательно, словно продвигаясь наощупь по тёмной комнате, я перечитывал её ещё и ещё, пока не пришёл к выводу, что всё дело в нелепых "Семейных архивах", а точнее, в муже Кнорозовой. Выходило, что он занимался культурами майя и ацтеков. Не был ли он тем самым перешейком, что соединял древние территории Латинской Америки и сегодняшнюю треснувшую по швам Евразию? Или же, одурманенный манускриптом, я видел притаившихся майя повсюду - как в случае с Плисецкой? Где проходила тонкая грань между безумием и реальностью, и мог ли я быть всё ещё уверен, что уже не переступил её?
Помню, озарение тогда было совсем близко; оно могло наступить ещё до конечной станции Сокольнической линии (свою - "Библиотеку имени Ленина", я, разумеется, пропустил, увлёкшись конспирологическими изысканиями).
Помешал тот мальчик.
* * *
Он, верно, уже не первую минуту смотрел на меня так вот: нехорошо, исподлобья, и до того внимательно, что первой моей мыслью было - как же я не почувствовал на себе его тяжёлого взгляда раньше?
Лет ему на вид я не дал бы больше пяти, но на румяном личике не было и следа той весёлой беззаботности и непосредственности, в которых находят обычно отдых и утешение играющие с малышами взрослые. Напротив, казалось, что с дивана напротив меня изучающе рассматривает умудрённый летами старик, утомлённый жизнью и давно разочаровавшийся в ней. Мне сразу подумалось о переселении душ, хотя до сих пор я удерживался от соблазна верить в эту теорию.
Он был почти неподвижен, только покачивал флегматично свисающей с дивана ножкой. Выглядело это так, будто некто, вселившийся в его тело, пытается придать естественности его поведению, но выходит неуклюже, дёргано, как у деревянных кнорозовских марионеток.
Когда я перехватил его немигающий взгляд, странный мальчик ничуть не смутился, а вместо этого легонько кивнул - не мне, а сам себе, словно удовлетворённо отмечая, что всё же добился желаемого. Я сначала отвернулся, решив не обижаться на ребёнка за бестактность, но потом, не выдержав, снова посмотрел на него - чтобы упереться в его прищуренные глаза, которые он и не думал опускать. Мне стало неуютно, и я заёрзал на сидении, будто припрятавший шпаргалку двоечник, на которого пристально уставился преподаватель.
Почему его не одёрнут родители? Я беспомощно завертел головой, стараясь определить, кто же из находящихся рядом с мальчиком взрослых может приказать ему снять с меня осаду. Но он сидел особняком от соседей и слева, и справа, и ни те, ни другие, казалось, не только не имели к нему никакого отношения, но и вообще не замечали его.
Бежать, оставляя поле боя такому несерьёзному противнику, мне было стыдно, и я решил хотя бы не вскакивать с места в то же мгновенье, а набраться мужества и дождаться следующей станции, чтобы степенно подняться и покинуть вагон.
Перегон до неё растянулся, по меньшей мере, вчетверо; никогда ещё я с таким нетерпением не дожидался остановки поезда. Я готов был уже отступиться даже от этого маленького маневра, бросить знамёна и скрыться в дальнем конце вагона; я даже собрал уже свои газеты, собираясь вставать, когда мальчик заговорил.
Он, несомненно, обращался ко мне. Из-за стука колёс и гудения туннеля было не разобрать ни слова, и я не мог даже догадаться, о чём он со мной говорил. Выражение лица его оставалось неизменным, и только рот беззвучно открывался и закрывался: он и не пытался перекричать шум несущегося поезда. Мне вдруг захотелось услышать его, и я показал на уши, давая понять, что ничего не понимаю, но мальчик никак не отозвался на мой отчаянный жест.