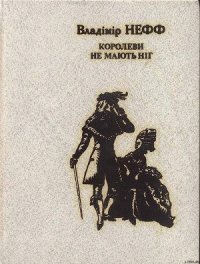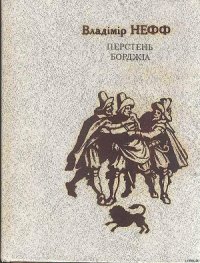У королев не бывает ног - Нефф Владимир (электронная книга TXT) 📗
Сказать, что маленький Петр Кукань из Кукани не любил отцовской мастерской — это значит еще ничего не сказать или сказать очень мало: он ее ненавидел. Она внушала ему отвращение, потому что была темной, холодной и в ней невыносимо воняло; мальчик боялся змеи, нарисованной на единственном ее окошке, и языков пламени, извивавшихся, вырывавшихся из печи; нагоняла на него ужас и внешность брата Августина, с его единственным зубом цвета зеленого мха, который обнажался в черном провале рта, заросшего грязной бороденкой и палеными усами, когда монах говорил или раздвигал губы в улыбке; брат Августин за нескрываемое к нему отвращение платил Петру откровенной антипатией, поскольку никогда не забывал, что Великое творение, достигшее последней фазы, испортилось как раз в день Петрова рождения, когда пан Янек, теша себя мыслями о судьбе сына, в упоении не заметил, как уснул. Господи, Боженька мой, задавался иногда вопросом маленький Петр, ну отчего у моего отца такое дурацкое занятие? Быть алхимиком — да ведь хуже этого ничего не может быть, хуже этого ничего не придумаешь; взять вон кузнеца Неруду, у него и то жизнь лучше нашего, в кузнице хоть тоже печь, но подковы лошадкам кузнец ставит на солнышке во дворе; и портному живется лучше, хоть он и сидит как прикованный у себя в мастерской, но там, по крайней мере, не воняет; и бродягам лучше, и писарю в суде, и трактирщику из «Трех дураков», и паромщику, и солдату, и вообще — любому человеку, только алхимику хуже всего.
Таковы были воззрения шестилетнего Петра, в ком отец мечтал видеть преемника, который изобретет эликсир вечной жизни и создаст гомункулуса; сын избегал отцовской мастерской насколько мог, но однажды пан Янек, возжаждав показать Петру опыт с Философским хлыстом, сцапал мальчишку, когда тот мылся у колодца, и затащил его в свою мрачную мастерскую; сын чуть не расплакался от перенесенного унижения и обиды. Природа наделила Петра даром — чарующе чисто, трогательно и доверчиво улыбаться, — этой улыбкой, если хотел, он мог расположить к себе кого угодно; но когда он сидел, нахмурив лобик, мрачно потупив в землю взгляд своих бархатных черных очей, расставленных несколько далековато друг от друга, уже тогда, когда его смуглая мордашка была еще нежно-округлой, — улыбка эта начинала выражать непререкаемое, гордое презрение — и любимый сын выглядел куда как противно, просто отвратительно; и мы не можем не подивиться мягкости и многотерпеливости пана Янека, который сумел извинить эту странную, на нервы действующую, раздражающую ухмылку сына. (Здесь уместно будет добавить, что черные, широко расставленные глаза Петра были оттенены длинными, шелковистыми, прелестно изогнутыми ресницами, что редко встречаются у представителей мужского пола, а если уж вдруг обнаруживаются у них в таком великолепии, то пробуждают у женщин горькую мысль о том, что творец непонятно зачем наградил столь редкостным украшением существо, которое не в состоянии этого оценить и кому такой дар — попросту ни к чему.)
Уверенный в успехе своего замысла, убежденный, что на сей раз пробудит в сыне интерес к алхимии и покорит его, пан Янек встал за конторку, где писал письма и где теперь полыхала спиртовка, вынул из ящичка кусочек сахара и показал Петру.
— Что это, сыночек? — спросил он.
— Сахар, — ответил Петр, надув губки. Он хотел было тут же попросить: «Дай мне», но сообразил, что сахар, скорее всего, провонял тем же мерзким смрадом, что и вся эта кухня, и желудок его содрогнулся.
— Чудесно, это действительно сахар, — похвалил сына пан Янек. — А что тебе известно о сахаре?
— Что он сладкий, — ответил Петр.
— Да, он сладкий, питательный и не вреден для здоровья. Но все эти свойства нас в данный момент не занимают.
— А почему не занимают? — спросил Петр.
— Не занимают, потому что сейчас нас интересует кое-что другое, — проговорил пан Янек. — Смотри, сейчас я положу этот кусочек сахара на огонь.
— А зачем? — спросил Петр.
— А чтобы ты увидел, что сахар не горит, — сказал пан Янек.
— Но я не хочу видеть, что сахар не горит, — воспротивился Петр.
Пан Янек настоял на своем, взял сахар щипцами и подержал его над пламенем спиртовки. Белая масса начала подтаивать, выделять влагу, пожелтела, потом сделалась коричневой и наконец расплылась.
— Ну вот, ты видел, что сахар не горит, — произнес пан Янек.
— Я и так об этом знал, — возразил Петр.
— Откуда же ты мог это знать?
— Да ведь ты сам мне сказал, — ответил Петр.
— Очень славно, что ты веришь моим словам, — отозвался пан Янек. — Но не исключено, что этот сахар мне все-таки удастся заставить загореться.
Алхимик заговорщически подмигнул сыну, потом, повертев в пальцах железный гвоздь, вынул из ящичка еще один кусочек сахара, поиграл с ним, положил на пламя, и сахар вспыхнул, и горел, горел, пока не сгорел весь без остатка.
— Видишь, негорючая материя превратилась в материю горючую, — торжествуя, провозгласил пан Янек. — Это первая трансмутация материи, которая совершилась у тебя на глазах, и ты хорошенько запомни это, сыночек.
— А зачем? — опять спросил Петр.
— Затем, что это — своеобразное чудо, — ответил пан Янек. — Достаточно было незначительного, невидимого, невесомого количества железа, которое пристало к моим пальцам, когда я держал ими гвоздь, и которое я перенес на этот кусочек сахара, чтоб он превратился во что-то иное, наделенное иными свойствами, не теми, какими обладал прежде. Бесконечно малая частичка железа, сотворившая это волшебство, на нашем специальном языке называется Философский хлыст.
— А почему? — спросил Петр.
Пан Янек вздохнул.
— Ну потому, что оно и впрямь оказывает себя хлыстом. Сахар не желал гореть, а Философский хлыст принудил его это сделать, и он горел на славу. Это равносильно тому, как заставить слушаться своенравного коня. Теперь тебе хоть немного это понятно?
— Вроде как понятно, — сказал Петр.
— Ну расскажи, как ты это понимаешь.
— Вот если норовистого коня ударом хлыста заставить слушаться, он переменится и станет не тот, что прежде.
— Справедливо, — кивнул пан Янек.
— А это значит, — продолжал Петр, — что послушный конь — это вроде и не конь вовсе.
— Нет, это конь, — поправил сынка пан Янек. — Так же, как золото — металл, и железо — металл, и медь — металл, так и послушный конь и норовистый конь — это все кони, а между тем — золото ведь не то, что железо и медь, и послушный конь — нечто иное по сравнению с конем норовистым, вот и горючий сахар — нечто совершенно иное, не то, что сахар негорючий.
— А что, горючий сахар не сладкий? — спросил Петр.
— Я уже толковал тебе, что проблема сладости и несладости сахара нас теперь не занимает, — ответил пан Янек.
— Но мне интересно, остался ли сахар сладким, — упорствовал Петр.
Пан Янек некоторое время молчал, прикрыв глаза, а потом глухо проговорил:
— Сахар остался сладким.
— Тогда, выходит, это тот же самый сахар, — сказал Петр.
Пан Янек снова умолк.
— Будь любезен, сынок, встань и уйди, — наконец вымолвил он. — Даже мое терпенье не бесконечно.
Петр не заставил себя упрашивать и тут же умчался, зато брат Августин, адски озаренный пляшущими языками пламени, выбивающимися из дистилляционной печи, громко рассмеялся, обнажив во всей красе свой единственный торчком торчащий зеленый зуб.