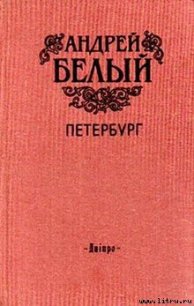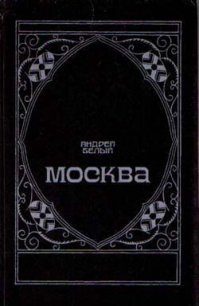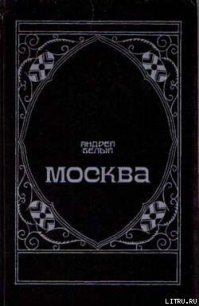Симфонии - Белый Андрей (хорошие книги бесплатные полностью .TXT) 📗
И она была тенью снегооблачного мужа.
Вот поднялся снегооблачный муж, как воздушный иерей в алмазной митре, изогнувшись слепительным станом, а хладные его пальцы в стрекотанье блещущих лучей мерно и плавно несли месячный осколок, как осколок чаши алмазной, поливающей свет.
Он испивал старинный старины напиток к нам взывающего томления, и в голубой пролет надо всем свисающего облака тем же он взирал глубоким томлением, что, как любовь, зовет все неумолчней, — и зовет-то, и плачет-то, ластится и раскачивает детскую колыбель души сиротинки, похищенной временем.
Другой он рукой долу опустил перловый трезубец, лучащий в низины острый ток молний.
За ним влеклась его тень, словно клобуком опрокинутая игуменья.
Вот он встал над облачным пролетом; — вот, смотрите, он встал: испив, пустил от себя осколок чаши хрустальной, в высокую улетевший вышину утренним месяцем.
Вот стоял он над гробною лазурью: — вот стоял он, а его тень лежала в четырехугольном ее пролете, словно в иссиня-синем гробу, запорошенная дымом, будто снежком.
«Уй-мии-тее-сь волнее-нии-яя страа-аааа…
Ааах».
Игуменья проснулась на чьей-то безвестной, ледком охрусталенной могилке.
Утренний серп в небе свисал лепестком изогнутой лилии, едва приметной, белой.
Ясноочитый стоял скуфейник над упавшей игуменьей.
Клонился и ей говорил: «Опомнись, родная: ведь могила пуста».
Ветряный напор взвил его одеяние кисейными лепестками.
Ее он поднял, ей улыбнулся и оправил огонек лампадки.
Завизжали красные фонарики, охваченные ветром.
Многокрестное кладбище, терзаемое порывом, страстным гласом стенало, в любовной ширило пытке свои огневые янтарные очи; потрясало, тянулось венчанными руками своими — десятками крестов — к нему, к ветру — рыдало: фарфоровые лепестки, дзинькая, опадали на плиты.
ВСПОМНИЛА!
Вьюга вздохнула безответно, и она вспомнила шелест скрипок в театре, где шлейфом когда-то разметала незабудки, где упивались ей, восхищались, дышали; где милый ей улыбался и звал, как и в детские годы, куда-то.
Но строгий скуфейник, стоявший над ней, тронул ее, и они пошли прочь от воспоминаний.
Там махали ветками снежных ландышей: там облегченно упивались простором.
Там был лёт снежной пены, разбрызганный в пространствах и размешанный с сумраком.
Весь день они пробродили в полях.
Она шла рядом со странником, потупясь, и черная вуаль вихрилась за клобуком.
Она робко вскидывала глаза, будто исповедуясь: «Я ушла от мира: я любила — но любила сон — не его».
И странник склонился золотою бородкой: ветряный напор стал рвать его кудри; матовый лик улыбнулся бархатной улыбкой, чуть-чуть страшной: «Нет, его ты любила!»
Бледный стоял, чуть прищуренный, и вьюга в душе запевала, как прежде.
Лапа метели то гладила их, то иглами, звездами, снежными перлами дико царапала.
Они подняли друг на друга синие очи, синие, и покрыли их, щурясь, черным шелком ресниц, грустные, не узнавая друг друга.
Поднялся серый мундир, и сквозное глянцевитое лицо в ореоле лиственных седин, вперенное в мать-игуменью, запело, как и не раз ей певало:
«Как хоо-чии-тся мне вее-риить ии люю-биить!»
Но глянцевитое лицо покрыл странник светлой ладонью — и увидела, что на высоком сером столбе ветром стрекочет фонарь с жестяным, серебрящимся верхом.
Странник сказал: «Это караулит прошлое на границе дряхлого мира».
Они прошли, и ей вслед верещал стеклянный фонарь на деревянной палке: «Я любил, и вот я мертв!»
Солнце подкатилось к земле и проваливалось.
И оно провалилось.
И там, где съела земля золотой его плод, красный сок стекал в небо.
Они стали на сером голыше, с которого спадали воды.
Ныне подмерз водотек, и остуженные ледышки венком хрупких струнок вонзались в бархат сугробов с гранитного лба.
Меховым сапожком она топтала голыш, точно гигантов запрокинутый череп.
Гигантов лик скудно крысился мертвым хохотом: ветр скулил в ледяной трещине рта: «Подруга дней моих, я во сне возвращался».
Она отвернулась от прошлого с отемненным сердцем.
Метель кидалась снеговыми объятиями.
Огненно-желтый закат потухал над полями.
Она говорила, сжимая четки: «Почему у милого было светлое, светлое лицо? Он был в жизни как странник».
И склонился: губы его разомкнулись, точно доли багряного персика, взрезанного ножом: «И я странник тоже».
Она смотрела в неземное жемчужное лицо странника и узнавала никогда не забытые черты.
«Это я шептал о воскресении, но ты меня убивала: умирал и воскрес. Это я ратоборствовал за тебя, нисходил во ад, где ты отошла от меня».
Черным стрижом она припала к светлому скуфейнику, но вейный иерей в перловой митре извизжался над ней секучим серпом пурги:
«Ввзвв… ввзвв… я… я…
Мой гнев со мною…»
Рясофорная вопленица упала на голыш, и напал перелетный лик метели, о голыш разбился: белыми пчелами пропылился ей под воротник жужжать о невозвратном.
А вдали, вдали уходил от нее скуфейник, уронивший в варежки слезоочитыи лик, жемчуг соленый проливать о ней, прося и ей смерти.
Раскрывала ему вслед алый венчик рта, стряхивала в снег хрусталики стекленевших слезинок.
Протянулись метельные облачка. Уж взывал снеголетный вихорь, холодно бросив в поднебесье кромешную пургу.
ПЕСНЬ ИЗ БЕЗДНЫ
Когда ушел скуфейник, она осталась у фонаря на границе обители и дряхлого мира.
Фонарь, как вздыбившийся зверь, стеклянной пастью оскаленный на любовь ее, изрыгавший вихорь то снеговой, то стекольный (вьюга разбила его).
Это его метельные руки звериными когтями над ней летели,
за ней летели.
«Кто убежит от меня? Нет, никто…»
В страхе бежала от него, в сугроб падала, опять вставала.
И гнался за ней рев звериный, старинный.
Все тот же.
Волновалась обитель.
В те дни странник уходил за гребень многохолмный, будто нырнул в метельный океан.
Ароматные куренья струились, и косые лучи солнца, дробимые дымом, жутко плескались над клобуками монахинь в храме, точно далекие лучи благовестия над сиротливыми вопленицами.
Игуменья шла в келью и крикнула, пойманная песьей тенью, перерезавшей снег.
То, рыкая, просунулась звериная морда из открытого окна на нее,
скалилась на нее.
Она сказала: «Наше прошлое — тень пробежавшего зверя.
Вместе с нами в метели тащится зверь, провожая на родину.
На родину».
Это был лающий пес, кровавою пастью оскаленный на жену, облеченную в шелк, прежде бродивший в полях, а теперь забегавший вдоль обители.
Это его косматая морда появлялась то здесь, то там.
Иногда он вилял хвостом: «Кто накормит меня? Нет, никто…»
В страхе его обходила игуменья, а монашки его кормили хлебом.
И рыскал по обители пес косматый, старый, из пространств прибежавший.
Метель взвилась, и рявкнул пес, запушенный снегом.
Провалился в снег.
Метель запевала: «Я метель — улетающая жизнь.
Вот, как белая птица, взмываюсь я морем холодных перьев.
Я над вами плыву, неизменная, — на родину…
На неизвестную родину».