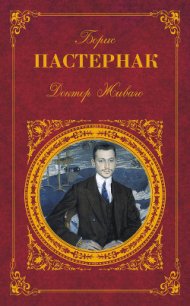Стихотворения - Пастернак Борис Леонидович (электронные книги без регистрации TXT) 📗
Поэтическое творчество становится сравнением:
Действительность видится Пастернаку как литературное произведение, как книга, которую он читает: «...медленно перевертываясь, как прочитанная страница, полустанок скрывается из виду» («Охранная грамота», ч. 1; 1).
Восторг перед миром и его проявлениями – где бы они ни были: в искусстве, в действительности, в природе, в траве, в ветке... Он называет самого бога режиссером:
Есть много общего в творчестве Пастернака с творчеством П. Пикассо. Оба ощущают себя конденсаторами мировой энергии. В своем интервью с Кристианом Зервосом Пабло Пикассо говорил: «Художник – вместилище эмоций, которые приходят к нему со всех сторон: с неба, с земли, от клочка бумаги, от очертаний тени, от паутины» [1].
Природа повинуется поэзии. Даже время проходит быстрее или тише в зависимости от своего значения. Когда солдаты стреляют по безоружному народу 9 января 1905 года, выстрелы предшествуют команде; и Ленин появляется на трибуне раньше, чем он всходит на нее по ступенькам. Ожидание Ленина – это уже Ленин.
Пастернак так говорит о реалистичности искусства: «Оно реалистично там, где не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело» («Охранная грамота», ч. 1; 7).
Реальностью для Пастернака является не только мир природы, города, бытовой, обыденной жизни, но и сама поэзия. Поэтому наряду с внешней, «материальной» и первозданной действительностью на поэзию Пастернака воздействует и вся культура прошлого, вся прошлая поэзия. Это воздействие ни в коем случае не может быть отождествлено с влиянием; это только подсказка тем, образов, мыслей.
Отношение Пастернака к культурным традициям требует особых пояснений. Он воспринимал традицию как творческое начало. Требовал от нее не удобных заезженных путей, а толчка к будущему, важного для обретения индивидуальности, а потому особенно значительного в начале творческого пути.
И традиция культуры в ее преображающей, творческой сущности для него жива, движется, летит в пространстве, постоянно влетает в его поэзию цитатами и образами предшествующей поэзии. «Всем нам являлась традиция, всем обещала лицо, всем, по-разному, свое обещанье сдержала. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить» («Охранная грамота», ч. 1; 2). Традиция и привязанность к ней – это любовь к людям, далеким и близким, уже умершим и с ним живущим рядом (как, например, Маяковский, которого он так любил). «Отчего же, – спрашивает Пастернак, – большинство ушло (от традиции. – Д. Л.) в облике сносной и только терпимой общности? Оно лицу предпочло безличье, испугавшись жертв, которых традиция требует от детства. Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, – дело наших сердец, пока мы дети» (там же). А Пастернак остался ребенком до конца. Он сохранил свежесть впечатлений – от мира, от прошлого, от той традиции, в которой важен не шаблон, а необычное и индивидуальное.
И вместе с тем он требует знать цветы по Линнею, через ботанику. Всегда активная природа рвется к словам, к имени, к названиям, «точно из глухоты к славе». Человек, вооруженный словом, – сознание природы. Действительность открывается через обращение к науке.
Все тысячелетия человеческой культуры были в равной степени актуальны, остры и сиюминутны для Пастернака. Он живо ощущал единство человеческой культуры всех времен и стилей, всех народов, «сквозную образность» искусства. Он писал о своем восприятии венецианской живописи: «Я любил живую суть исторической символики, иначе говоря, тот инстинкт, с помощью которого мы, как ласточки саланганы, построили мир, – огромное гнездо, слепленное из земли и неба, жизни и смерти и двух времен, наличного и отсутствующего. Я понимал, что ему мешает развалиться сила сцепления, заключающаяся в сквозной образности всех его частиц» («Охранная грамота», ч. 2; 18). Но в другом месте Пастернак заявляет: «...поэзия моего пониманья все же протекает в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью» («Охранная грамота», ч. 3; 8). И еще: «Однако культура в объятья первого желающего не падает» («Охранная грамота», ч. 3; 2).
Возражая против понимания искусства только как отражения своей эпохи в пределах своего стиля, Пастернак писал: «...становится невозможным сказать, кто из троих и в чью пользу проявляет себя всего деятельнее на полотне – исполнитель, исполненное или предмет исполнения. Именно благодаря этой путанице мыслимы недоразуменья, при которых время, позируя художнику, может вообразить, будто подымает его до своего преходящего величья» («Охранная грамота», ч. 2; 17). И все ж таки именно время позирует художнику, воображает, ведет себя активно и, конечно, вторгается в исполненное художником, а сам художник называется исполнителем, а не творцом.
Входя в традицию, жадно впитывая в себя образы Пушкина, Достоевского, Блока и многих других, он постоянно уходит от всякой литературщины и преследовавшей его манерности, характерной для эпохи десятых и двадцатых годов. К простоте он стремился и от простоты убегал помимо своей воли – по воле эпохи. Только в конце жизни он достиг «неслыханной простоты», и эта простота оказалась в некоторой мере возвращением к традиционности – к Пушкину и Тютчеву.
Известны строки Пастернака в «Спекторском»:
Но ведь первые слова – это слова Пушкина и тоже связанные с наставлением о необходимости душевной бодрости:
Вот что пишет Пастернак: