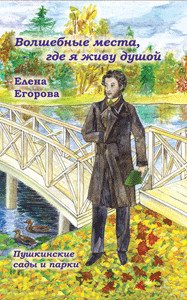Поэтический мир прерафаэлитов - Теннисон Альфред (читаем книги онлайн бесплатно полностью txt) 📗
Прерафаэлитское движение было не революцией, но мягким и сильным поворотом в викторианском искусстве. Настоящим бунтарем в прерафаэлитском кругу и «маленьким дьяволом» (lʼenfant terrible) был Алджернон Чарльз Суинберн. Его «Стихотворения и баллады», вышедшие в 1866 году, вызвали такой скандал, какого английская литература не знала с 1816 года, когда поведение лорда Байрона вызвало острый приступ нравственности в лондонском обществе. Читателей возмутили темы Суинберна: например, лесбийская любовь (в двух стихотворениях о Сапфо), бисексуализм (в «Гермафродите»), прославление языческого сна-небытия без воскрешения (в «Садах Прозерпины») и вообще дерзость и эротизм этой поэзии, по тем временам шокирующие. Напомним: нравы были таковы, что даже «Джейн Эйр» считалась чтением, неподходящим для женского пола. И вот они открывают книгу и читают, например, такое:
По сравнению с «Цветами зла» Бодлера (1857) книга Суинберна была, конечно, явлением не столь глубоким и радикальным. Она не вызвала судебного процесса, как в случае с Бодлером, лишь негодующие рецензии, да издатель на всякий случай открестился от книги. В то же время у автора нашлось много пылких почитателей. Оксфордские студенты толпами ходили по улицам, распевая стихи Суинберна. Да и сам поэт не сдавался. Он написал ответ критикам, отстаивая право поэта расширять границы своего творчества и быть свободным от запретов, — и еще глубже окунулся в богемную жизнь, полную всяких эксцессов, вплоть до посещения одиозного заведения в Сент-Джонс-Вудс, где клиентам по желанию предоставлялась порка.
Шум, поднятый его сборником, через год-два поутих; викторианское общество, отличавшееся не только строгими правилами, но и довольно высокой степенью толерантности, отнюдь не извергло Суинберна. Тем временем его бунтарская натура проявила себя в политической плоскости. Он подружился с Мадзини, соратником Гарибальди, нашедшим убежище в Англии. В 1872 году вышли «Предрассветные песни», посвященные борьбе за объединение Италии. В сборник вошли стихи, направленные против тиранов Европы, и гимны Свободе, звучные и зажигательные. Там была и ода Уолту Уитмену, чьи стихи Суинберн приветствовал одним из первых. Это не помешало ему впоследствии разносить того же Уитмена в клочья.
Вообще поздний Суинберн — это, так сказать, прирученный тигренок. Он жил в пригороде Лондона у своего друга, который спас поэта в самый критический для его здоровья момент и установил над ним жесткую опеку. В эти годы Суинберн больше занимался литературной критикой и биографиями писателей (в том числе, написал книгу о Блейке). Он сильно изменился. Былого мятежника, который некогда всполошил все викторианские голубятни, теперь шокировала своей нескромностью шекспировская «Венера и Адонис»; того, кто пел самозабвенные гимны Свободе, возмущали ирландцы и буры, борющиеся за независимость.
В чем причина этой метаморфозы? Этот маленький и щуплый с виду, хотя и крепкий юноша с огромной копной рыжих волос, по-видимому, всю жизнь оставался мальчишкой. В нем было что-то от музыкального вундеркинда, яркого, но не оправдавшего всех ожиданий. Его ум и душа так и не созрели. Воспитание в Итонской школе, диковатые нравы мальчишеского коллектива и розги воспитателей определили его характер, его порывы и пороки — от эстетического бунтарства до эксцессов личной жизни. Это отражается и в его поэзии, увлекающейся, но неглубокой, порой эффектной, порой утомительно шумной.
И тем не менее, ему удалось внести в английскую поэзию новые ритмы, новые звуки, окончательно утвердить в ней новые трехсложные размеры, раскрепостить просодию стиха. Музыкальность его стихов, богатая инструментовка, яркая образность когда-то поразили читателей — и до сих пор способны вызывать восхищение. Как сказал английский критик, «поэзия Суинберна была складом, который снабжал стихотворцев нескольких поколений поэтическими формами вплоть до 20-х годов XX века» [7]. Борис Пастернак в 1916 году увлекался Суинберном: перевел первую часть его трилогии о Марии Стюарт (рукопись пропала в типографии в 1920 году) и даже начинал переводить третью часть, — хотя признавался в письме другу, что она «до крайности длинна и велеречива» [8].
Девушка, изображенная на картине Данте Габриэля Россетти «Отрочество Девы Марии», — сестра художника, Кристина. Она позировала и для ряда других картин брата и его друзей. Как и Данте Габриэль, Кристина писала стихи с детства. В кругу поэтов-прерафаэлитов она занимала видное место. Но, как это ни парадоксально, причислить ее к «прерафаэлитской школе» невозможно. Ее вообще невозможно причислить ни к какой школе, потому что это означало бы некие осознанные намерения в искусстве, следование каким-то принципам или образцам.
В том-то и было ее отличие от Д. Г. Россетти и его друзей. Они творили поэзию, а она сама была поэзией. Как писал о ней другой поэт: «Что можно сказать о чистой воде, утоляющей жажду? Чем мутнее, загрязненнее примесями автор, тем легче его разбирать и анализировать. А стихи Кристины не хочется разбирать — над ними хочется плакать».
Если главной субстанцией поэзии является печаль (с чем я, в общем, согласен), то Кристину Россетти надо признать самой печальной, а значит, лучшей английской поэтессой. Столь же печально сложилась ее жизнь. Воспитанная матерью — итальянкой по происхождению, но ревностной протестанткой по вере — Кристина с детства привыкла сдерживать свои желания и чувства. А ведь талантом и темпераментом она была наделена так же щедро, как ее брат; можно представить, каких сил стоило ей постоянное самоограничение.
Кротость, набожность, боязнь совершить что-нибудь грешное смолоду вошли в привычку, сделались характером Кристины. «Как ты собираешься жить с такой тактичностью?» — воскликнул однажды ее брат Уильям. Она перестала играть в шахматы, потому что это разжигает желание взять верх над соперником, перестала ходить в театры, потому что актеры часто неподобающе себя ведут. Ее итальянская кровь была обречена кипеть без выхода: ее преследовало ощущение фальши и непрочности земной любви.
Я искала среди живых и искала среди мертвых, кого мне полюбить; я нашла немногих, и те уже истратили запас своей любви, а дружба слишком слаба, слишком холодна для меня. Но я никогда не раскрою своего сердца на потеху тем, кто будет слушать и улыбаться; я могу стерпеть, и я стерплю: слез, быстро сохнущих на пылающих щеках, вы не дождетесь. И когда мой прах смешается с прахом других смертных, когда я наконец упокоюсь в земле и буду лежать безмятежно, истончаясь как воспоминание, — те, кого я любила, подумав про меня, не смогут сказать с уместной печалью: «Поплачем о бедной малышке — а потом пойдем повеселимся».
В оригинале это был сонет, который я здесь перевел грубой прозой. Представьте себе безукоризненно написанный сонет — с четверными рифмами в катренах, с многочисленными анжамбеманами: всё как положено. Удивительно не то, что он сочинен восемнадцатилетней девушкой, а то, что предлогом для написания явилась игра в буриме. Рифмы были заданы: seek, few, through, weak, speak, who, do, cheek; dust, decay, thought, not, must, to-day. И пятнадцать минут на сочинение.
Два раза Кристина была на шаг от замужества. Первым ее избранником стал молодой художник-прерафаэлит Джеймс Коллинсон. Это был флегматичный парень, друзья подшучивали над его феноменальной сонливостью: он мог заснуть, рисуя натурщицу, которой платили по шиллингу за час. Этот парень под влиянием кардинала Уайзмена перешел в католичество, потом под влиянием Кристины возвратился в англиканство. Они были помолвлены; но через некоторое время дремавшие в Коллинсоне сомнения проснулись, и он опять вернулся в лоно Римской Церкви. Возмущенная Кристина разорвала помолвку.