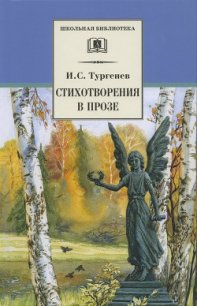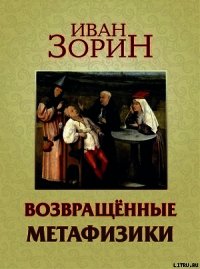Стихотворения. Избранная проза - Савин Иван Иванович (читать книги бесплатно полностью txt) 📗
– Не надо, слушай…
Кто сказал это – не помню. Но мы вернулись к няне, долго рвали траву, цветы какие-то, сочные листья, стебли, засыпая ими еще не остывшее тело.
Зеленая душистая горка выросла над няней. Издали стогом свежего сена казалась эта могила.
Так не найдут.
Потом опять море скользской травы, изнемогающая мама, незасеянные поля, пустынная дорога куда-то, едкая пыль, ранний рассвет, опять ночь, пыльная лента дороги, вымершие деревни.
Извилистым рядом гробов стояли избы. Ни собак, ни петухов, ни ветра. Тихо. В первой избе – мертвый старик. Во второй, на лавке – голая девочка с прокушенной нижней губой. Андрей Иванович говорил, что у нее отрезана нога. Не знаю. В третьей.
В третьей мне неожиданно сдавил горло спрыгнувший с печи парень с вышедшими из
орбит глазами. Он дрожал весь, быстро вышлепывая изо рта одно и то же:
– А ты хлеба принес?.. А ты хлеба принес?.. А ты…
– Мы тоже за хлебом…
Напрягая последние силы, Андрей Иванович ударил его в грудь. Парень грохнулся на пол и затих. Люка стала на колени, дрожащими руками закрыла остекленевшие глаза.
– Прости нас, бедный, милый. Прости. У нас только кусочек, немножко, а нас четверо. Опять пыль, опять пустые поля, безлюдные улицы сел.
Солнечным утром вышли мы на север, неведомый, манящий, где в выжженной земле еще зрели колосья, где чужеземцы с сухими бритыми лицами раздавали так хорошо хрустящие под зубами лепешки, много-много риса, банки с консервированным мясом.
Солнечным утром вышли мы к хлебу и тихим, лиловым вечером вползли в полуразрушенную избу с узорчатой пряжей паутины.
Съели последний комок затвердевшего хлеба, жадно собирали крошки. Потом, ползая по двору на коленях, вырывали зубами жестокий кустарник; чешуйчатые листья, сочные корни, пахнувшие мятой. Потом затихли на глиняном полу.
Опускалась и снова льнула к потолку паутина. Гулял на чердаке ветер.
Мы умирали на глиняном полу.
С ней, с Люкой, случайно встреченной в первый день нашей дороги на север, случайной любимой, мне не было страшно.
Еще вчера, поняв, что ползти дальше нет сил, мы с огромным трудом вбили шест у хлопающих ворот, обмотали его зеленым платьем девушки, наверху повесили платье Андрея Ивановича. Это был наш якорь, наш маяк, нелепое знамя нелепой надежды: может быть, кто-нибудь заметит, спасет.
Разрывая на узкие полосы платье, Люка сказала мне так, как могла говорить только она, славная, нежная:
– Вы не думайте. Если не думать, не хочется есть. Только трудно стоять, да. Мы ляжем. Здесь тихо, тепло. Мы отдохнем… небо в алмазах…
Теперь она спала рядом со мной на истлевшей соломе, и на грязном полотне потолка искала алмазы. Их не было, их не могло быть, кротко мерцающих звезд, но строго смотрели вверх широко открытие глаза.
Я сжимал в кулаке заветную корку хлеба – если бы они знали… Я выкрал ее из охотничьей сумки. Отламывал по крохотному кусочку, подносил ее ко рту Люки.
Только для нее я вырывал жизнь у матери, у хрипящего на пороге Андрея Ивановича. Только для нее, разламывая хлеб, дрожа над ним судорожно, я берег свое богатство от самого себя и, протягивая его к полуоткрытому рту девушки, с суровой болью закрывал глаза.
Но крепко сжимались розоватые зубы, я не мог вдавить в них комков ржи и проса. Мелкие крошки скатывались по опрокинутому назад, такому острому, подбородку на солому, на пол, на оголенную детскую грудь. Люка уже не могла есть.
И почему мне было так радостно, умирая, говорить эти совсем не скорбные, совсем не похоронные слова?
– Они не знают, что ты – невеста. Мне так хорошо. Моя невеста. Вот отдохнем, а на поле – солнце. Усадьба, где Стенька Разин. Мама благославила уже. Видишь, церковь. Звонарь такой седой, сердитый. Но это ничего. Здесь покоится няня. На еще, у меня много, целый фунт, шестьсот пудов, миллион. Почему ты не…
Падали крошки на солому, на глиняный пол. Серебряной парчой полыхалась паутина. А ветер пел. Пел ветер.
– Мы будем ужинать на балконе, – говорил я, плача от радости,– долго, две недели. Все ужинать, ужинать на балконе, у колонн. Балкон… Балтийское. Бальмонт. О, моя девочка, о, моя ласточка, в мире холодном с тобой… На хлеба, Люка! Ты уже спишь, родненькая? Ну
спи, я ничего. Я так. Плечо мерзнет? Закрою. Ты не смейся, я поцеловать пальцы. А ветер –гу, гу-гу-гууу. Люблю тебя. Насовсем, навсегда. У меня еще есть, у меня еще много. Понимаешь, – булка, и откусить. Она мягкая,а корочка – хрустит. Вот смешно – откусить и потом. корочка. И мягкая. Так ползли часы, дни.
Может быть, этого и не было. Было, наверно.
Андрей Иванович, прижав голову к коленям, покатился по полу. Сверкнуло стекло в сломанных очках, иссиня черное лицо прильнуло к глине, слизывая крошки громко хлюпающим языком. Андрей Иванович ущипнул меня за ногу и улыбнулся.
…Шляпу его на шест, маяк – решил я. Вот хорошо. Шляпа… и засмеялся трудным кашляющим смехом.
– Я, Андрей Иванович, женюсь. В половине второго. Мама уже. Это ничего. Будете шафером…
Он торопливо сделал из соломы тонкий жгут и замахал им, качаясь на согнутых коленях.
– Имею честь. Профессор санкт-петербургский и ладожский. Необычайно. Чайно. Пекин, Нанкин и Кантон сели рядом в фаэтон. Хо! Нобелевская премия – мне. Девять лет я искал. И вот. Пожизненный памятник должны…
– Мама!
За спиной застонало что-то, зашумело.
– Еще живу, мальчик. Ты?
Я, как Евангелие, поцеловал спутанную косу Люки.
– Тоже. И она, живая. Мы не умрем, мама. Я, мама, люблю ее. У меня еще есть…
Андрей Иванович вытянул квадратную, прыгающую голову и сказал, быстро вращая
мутными зрачками:
– Открытие: Бога нет. Это перевирает. Я искал, нашел: нет Бога…
Сведенная судорогой рука затряслась у стены. Нечеловеческой болью хлестнул тишину крик:
– Повесили Бога! Я открыл: на дыбе – Бог.
Он изогнулся, пополз к девушке.
– Трупоед, людоед, людовед. Ладожский… Професс. фес. а у той – отрезана нога. Ели ногу. Хотите. хи… руку. мясо.
Я приподнялся на локтях и упал на Люку, обнимая холодеющие, неподвижные плечи. Гладил опрокинутый назад лоб, открытие глаза, щеки и говорил ему, в сломанных очках:
– Пошел вон, милый. Ну ты видишь же. Пошел вон… Мама, он хочет… Андрей Иванович, хрипло дыша, покатился к порогу.
– Шутя… я же не… Вы ошиблись. Ошибся… Мне бы раз только, раз… Немножечко… Солнечным утром вышли мы на север. Солнечным днем нас нашли в полуразрушенной
избе с узорчатой пряжей паутины.
Странные, отрывистые речи рассыпались в мертвой тишине. Почему-то внесли к нам маяк наш, надежду нашу – длинный шест с соломенной шляпой наверху. Подымали бесчувственную маму, дымили сигарами.
И никак я не мог понять, почему сошедший с ума Андрей Иванович плевал в несгибающегося старика с длинным сухим лицом и кричал ему, показываю на Люку:
– Открытие… Хи… А она уже… пахнет. Третий день молчит… Я хотел…
Старик вздохнул, направляясь ко мне.
А я плакал так, как плачут дети, вытирая кулаками слезы. Плакал, падая на пол, стуча разрывающейся головой в закопченные стены, плакал и просил, просил, задыхаясь, захлебываясь:
– Ну встань, Люка! Встань. Нам же в церковь. Встань, лепешки здесь. Рис. Уже не надо думать. Встань!
(Рижский курьер. 1924. № 978).
IV. Огнь пожирающий
Задние колеса вагона скрипели очень подозрительно. Дребезжащий тягучий звук надоедливо отдавался в углах тоскливым всхлипыванием. Может быть, перегорала ось.
Впрочем, Фомка говорил, что железо ни за какие двадцать не горит, и все это господские выдумки. Был он очень умен, этот огненно-рыжий толстяк с недавно ампутированной рукой.
Иногда весь вагон подпрыгивал. Лязгала тогда ржавая крыша теплушки, с треском раскрывались двери. Потом, успокоившись, снова подозрительно скрипели задние колеса.