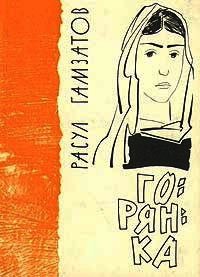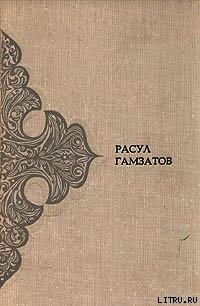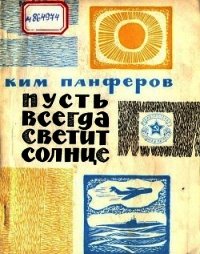Собрание стихотворений и поэм - Гамзатов Расул Гамзатович (электронные книги без регистрации .txt) 📗
И звезды над Кремлем не побелели, На Спасской башне стрелки не стоят, И молодая мать у колыбели Поет, как пела сотни лет назад.
Был враг разбит. И я смотрю влюбленно На площадь, где прошли с победой в лад Войска, швырнув трофейные знамена К подножью принимавшего парад.
Но оттого, что нас зазря карали, Победа крови стоила вдвойне. И, стоя над могилами в печали, Оплакиваю павших на войне.
Мои два брата с фронта не вернулись, Мать не снимает черного платка. А жизнь течет. И вдоль аульских улиц Под ручку ветер водит облака.
По-прежнему влюбленные танцуют, Целуются, судачат про стихи, А лекторы цитаты все тасуют И говорят всерьез про пустяки.
И, с дирижерской властностью роняя Слова насчет немелодичных нот, Вождя соратник, сидя у рояля, Уроки Шостаковичу дает.
В театре, в министерстве, в сельсовете, В буфете, в бане, в здании суда, Куда ни входишь – Сталин на портрете В армейской форме, в штатском – никогда.
Сварила мать из кукурузы кашу, Но в мамалыгу молока не льет, А сообщает горестно, что нашу Увел вчера корову заготскот.
Кавказ, Кавказ, мне больно в самом деле, Что, разучившись лошадей седлать, Твои джигиты обрели портфели, Сумели фининспекторами стать.
В ауле слышу не зурны звучанье, Бьет колокол колхозного двора: «Пора! Пора! Проснитесь, аульчане, Вам на работу выходить пора!»
Шлют из района, план спустив в колхозы, Угрозы все да лозунги одни. От горькой прозы набегают слезы, Ох, дешевенько стоят трудодни.
Каков твой вес, державы хлеб насущный, Что собран и приписан вдалеке? – Не знает Сталин – корифей научный, Им поднят вдруг вопрос о языке.
Идет в кино «Падение Берлина». И, обратясь к тому, что было встарь, Перо льстеца жестокость обелило: Играется «Великий государь».
Вождь начал делать возрасту уступки: Он крепкого вина не пьет в обед, Не тянет дыма из вишневой трубки, Довольствуется дымом сигарет.
На всех широтах в тюрьмах и на воле, На поле боя, на столбцах газет, Позванивая сталью, не его ли Царило имя три десятка лет?
На льдину с этим именем садились Пилоты, прогремев на весь Союз. И на обложку это имя вынес Своей последней повести Барбюс.
Оно на скалах Сьерра-Гвадаррамы Для мужества звучало как пароль, И мужество несло его, как шрамы, Как на висках запекшуюся соль.
– За Сталина! – хрипел с пробитой грудью, Еще полшага сделав, политрук. И льнуло это имя к многопудью Парадной бронзы, отлитой вокруг.
На встречах в Ялте вождь держался роли, Которая давно ему мила. Входил он в зал, и Черчилль поневоле Пред ним вставал у круглого стола.
Но что с былой уверенностью сталось? Уходят силы. Боязно ему. Отец народов собственную старость, Когда бы мог, сослал на Колыму.
Он манией преследованья болен. Не доверяет близким и врачам. И убиенных позабыть не волен, Ему кошмары снятся по ночам.
Я в горы поднимаюсь ли высоко, По улицам брожу ли городским, Следит за мною, как царево око, Чугуннолицый, зорок и незрим.
Перед Кремлем, как будто бы три бури, Овация гремит. И я, чуть жив, Смотрю: возник Иосиф на трибуне, За борт шинели руку положив.
Предстал народу в облике коронном. И «винтиками» прозванные им Проходят в построении колонном Внизу, как подобает рядовым.
Лихого марша льется голос медный, И я иду – державы рядовой. И хоть я винтик малый, неприметный, Меня сумел заметить рулевой.
Мы встретились глазами. О, минута, Которую пером не описать. И еле слышно вождь сказал кому-то Короткое, излюбленное: – Взять!
Усердье проявил чугуннолицый: Он оказался шедшим позади… Быть может, это – явь, а может, снится Мне вещий сон на бурке из Анди.
*
Как вы ни держались бы стойко, Отвергнув заведомый вздор, Есть суд, именуемый «тройкой», Его предрешен приговор.
Не ждите, родимые, писем И встречи не ждите со мной, От совести суд независим, За каменной спрятан стеной.
Он судит меня, незаконный, Избрав роковую статью. Безгрешный я, но обреченный, Пред ним одиноко стою.
Запуганная и святая, Прощай, дорогая страна. Прощай, моя мама седая, Прощай, молодая жена.
Родные вершины, прощайте. Я вижу вас в сумраке дня. Вы судей моих не прощайте И не забывайте меня.
Залп грянул. Откликнулось эхо. И падают капли дождя, И взрывы гортанного смеха Слышны в кабинете вождя.
*
То явь иль сон: попал я в мир загробный, Вокруг окаменевшая печаль. Сюда за мной, хоть ловчий он способный, Чугуннолицый явится едва ль.
Здесь мой отец и два погибших брата И сонм друзей седых и молодых. Восхода чаша легче, чем заката, Извечно мертвых больше, чем живых.
И, бороду, как встарь, окрасив хною, Шамиль, земной не изменив судьбе, Отмеченный и славой и хулою, Лихих наибов требует к себе.
Вершины гор ему дороже злата. Еще он верен сабле и ружью. Еще он слышит глас Хаджи-Мурата: – Позволь измену искупить в бою.
В загробный мир не надо торопиться. И виноват лишь дьявольский закон, Что раньше срока Тициан Табидзе Из Грузии сюда препровожден.
Как в Соловках, губителен тут климат, И я молву, подобную мечу, О том, что страха мертвые не имут, Сомнению подвергнуть не хочу.
Но стало страшно мертвецам несметным, И я подумал, что спасенья нет, Когда старик, считавшийся бессмертным, В парадной форме прибыл на тот свет.
В стране объявлен траур был трехдневный, И тысячи, не ведая всего, Вдруг ужаснулись с горестью душевной: «А как же дальше? Как же без него?»
Как будто бы судьбой самою к стенке Поставленные, сделались бледны. И стало им мерещиться, что стрелки Остановились на часах страны.
Так повелось от сотворенья мира: Когда несется весть во все концы, Что армия лишилась командира, Теряются отдельные бойцы.
И слезы льют в смятении печальном, И словно слепнут, стойким не в пример, А по уставу в штабе генеральном Берет команду высший офицер.
Скончался вождь! Кто поведет державу? За тридцать лет привыкли, видит бог, К его портретам, имени и нраву, Похожему на вырванный клинок.
К грузинскому акценту и к тому, что, Как притчи, славясь четкостью строки, Написанные лишь собственноручно, Его доклады были коротки.
Привыкли и к тому, что гениален Он, окруженный тайною в Кремле. И к подписи незыблемой «И. Сталин», Казавшейся насечкой на скале.
Он знал, что слово верховодит битвой, И в «Кратком курсе» обрела права Считаться философскою молитвой Четвертая ученая глава.
Нес тяжкий груз он, как его предтечи. Но не по силам роль порой была, И не уравновешивались плечи, Как будто бы весы добра и зла.
В нем часто гнева созревали грозди, И всякий раз под мягкий скрип сапог Вновь намертво вколачивал он гвозди, Так, что никто их вытащить не мог.
А узел завязал, что и поныне Руками не развяжешь, как ни рви, Да и зубами тоже, по причине Того, что он завязан на крови.
Приход весны всегда первоначален, Но и весной не избежать утрат. Дохнуло мартом, а товарищ Сталин Лежит в гробу, багровом, как закат.
И в тюрьмах, и в бараках закопченных, Во глубине таежного кольца, У многих коммунистов заключенных От этой вести дрогнули сердца.
Слепая вера – что святая вера, И было думать им невмоготу, Что Сталина партийная карьера Под ними кровью подвела черту.
И словно все нашептывал им кто-то, Что исподволь легли в основу зла Ежова и Вышинского работа, Меркулова и Берия дела.
А Сталин чист, и недруги закона Сошлись, его вкруг пальца обводя. (Была сестрою ты попа Гапона, Слепая вера в доброго вождя!)
Усы седые. Звезды на погонах, И темно-желт окаменелый лик. Зачем пришел тревожить погребенных, Не к ночи будь помянутый старик?!
Еще в стране газеты причитают, Еще тебя оплакивают в них, Но подожди, иное прочитают Живые о деяниях твоих!
Не ты ль, как в инквизицию монахи, Посеял страх, правдивость загубя! Тебе одно, бывало, скажут в страхе, А думают другое про себя.