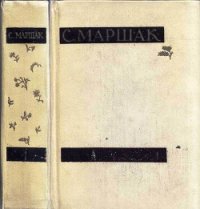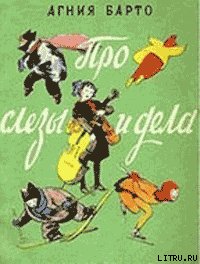Собрание стихотворений 1934-1953 - Томас Дилан (е книги TXT) 📗
Вот
Ребёнок, который не дожил ни до какого возраста,
Ибо только едва…
Лежит на груди могильного холмика,
На черной груди
До черноты углей опаленный
(Какой выразительный рот!!!).
Мать могилку вырыла,
А в ладошках еще колышутся клочья огня.
И все поющие «я»–
Поём,
Поя
Тьму рожденья, взрывом сожженную
В самый миг Рождества!
Пенье –
Пойманный язык колокола
Машинально кивает,
Сопровождая движенье
Осколков разбитой звезды
В почти не рожденную вечность,
Горюем так,
Что чудо того воскресенья,
Что случилось когда-то,
Уже и не факт, а пустяк…
Прости,
«Всех меня» прости,
Передай
Нам свою смерть,
Которую, может быть, только верой
Мы в этом всемирном потопе –
О, удержите! –
Она одна оставляет нам силу жить. И –
Пока кровь хлестать не перестанет фонтанами,
Пока пепел птицей не запоёт,
Пока смерть, как зерно
Сквозь сердца мои не прорастет…
Сердца? Или сердце? (На все мои «я» – одно!)
Стенань-я
Над ужасом умирань-я
Младенца доутреннего,
Допетушиного –
Над выжженной улицей взлетели
Моря и миры, я-влённые в опалённом, оставленном теле…
Песнь вопиет о Младенце,
Последние отблески произнесенного Света, –
Это
Зерна сынов, оставленные в лоне черного пепла.
2.
Не знаю
Адама или Еву,
Или Авраамова жертвенного тельца,
Или
Услыхавшую Благовещенье Деву,
На снежный алтарь Лондона
Возложили…
О, жених и невеста вместе
Под грустным соском надгробья,
Снежного, как скелет,
В промерзлом Эдеме,
Адам и Ева в одном лице, в одной колыбели!
Не знаю, кто из них первым
В пламени маленького черепа сгорели?
Ни на миг
Не смолкает легенда об Адаме и Еве
В моем отпеванье
Младенца:
Он был один и священником и назореем,
В углях этого черепа –
Певцом, языком и словом!
Заросли терниями
Опустелые ясли Сада.
Паденье ночи – змеино.
Яблоко солнца.
Женщина и мужчина,
Вновь превращенные в глину.
Это – начало начал, во тьму вмятое снова.
3.
В органные трубы,
В сверкающие шпили соборов,
В раскаленные клювы
Петушков над ними,
Вертящихся по двенадцати
(Хотя даже в аду – их только девять!),
По двенадцати заведенным кругам
До ряби, до искр из глаз,
В мертвый механизм над урной субботы,
Над вздором фонарей,
Над вскипаньем рассветов, или
Над охлажденьем закатов,
Вы, звонящие каждый час,
Над мозаикой позолоченных тротуаров,
Втиснутые в реквиемы,
В бронзу, плавящуюся для будущих статуй,
В свеченье пшеничных полей,
В обжигающее вино,
Вы, неизмеримые массы морей,
Массы всех человечьих зачатий,
Прорвитесь фонтанами,
Повторяющими только одно
Слово (мельче коего – все слова!):
«Слава, Слава, Слава
Царящему надо всем на свете
Грому торжествующего Рождества!»
78. ОДНАЖДЫ
Однажды жил да кружил
Булавками портного обтыканный вокруг духа
Выкроенный по мерке кусок плоти,
То есть костюм. Стоил он даже и не дороже,
Чем в магазине готового платья,
Этот костюм из собственной кожи.
Но за него я плачу и плачу врассрочку
Каждого первого числа трудностей жизни,
Ежегодно рассчитываясь рабским трудом.
Эти так дорого и так поздно доставшиеся
Порванные любовью пиджак и штаны
Залоснились и давно продырявлены
Щёлкающими зубами на краю времён.
Я, молодой мастиф, работал с птицами
В строгом с кистями ошейнике
Хоть в подвальной мастерской у портного,
Хоть на палубе плывущего глотателя облаков.
На море, порванном пробками-кораблями, лица моряков
Расплываются: оказываются не в фокусе немного.
Я, одетый в глину, притворявшуюся то чешуей,
То водяными одеждами морского бога,
То пеной от шлепающих весел,
Изумлял все еще на корточках сидящих портных,
Держась однако в отдалении от этих,
Циферблатные лица носящих портных.
В медвежьей маске и фраке шикарно, мохнато одетый,
Весь в листьях и перьях,
От кенгуриной ноги земли,
Из холодного молчаливого мира,
Таща за собой искусанную морозом тряпку,
Я взвился ракетой
Над нелепыми хребтами Уэллса,
Чтобы изумить сверкающие иголки
Сидящих на корточках
Знаменитых иглокропателей из «Шеби и Шорт».
2.
Дурацкий костюм так легко мне достался,
Вокруг гроба таскаю я человека-птицу
И привидение, о котором уже говорил,
Рано, рано я напялил капюшон совы, –
(Темное знанье)
И научился прятать ахиллесову пятку.
А когти в футлярах и дырка для отрухлявившей головы
Обманули, как я думал, моего создателя,
Идола на корточках, шившего этот костюм.
Сидящего на облаке закройщика,
Ш нервами вместо ниток.
На морях из разных сказок
Чешусь рогами, бью крыльями, Колумб в огне...
Глаза этого идола-портного пронизали все костюмы и шкуры,
Сверкая сквозь мою акулью маску и голову мореплавателя.
Холодный клюв Нансена... Корабль полон гулкими гонгами.
И остался мальчик – обычно скроен и просто сшит.
Блестящий притворщик,
Смешная подделка сразу под денди и моряка.
С сухопутной плотью, годной для украшенья и для постели.
Славно тонуть в приготовленной удобной водичке
Вместе с моим бездельником, промышляющим насчет клубнички,
Вызывая детский голос из паутинной ноги камня...
Никогда, никогда, никогда не жалеть о рожке,
Который я нес в рассекающей волны руке.
Теперь когда ненужные тряпки сняли с меня, и – на гвоздь,
Я лягу и буду жить реальностью спокойной, как белая кость.
79. КОГДА Я ВСТАЛ, ГОРОД УСТАЛ
Когда я встал, город устал,
Но не перестал
Говорить на всех своих языках:
Птицы, часы с разных сторон
И колокольный звон…
Змеящуюся толпу оглушает он.
Саламандра в пламени – кочерга –
Дырявит мой сон…
Море, которое рядом, разгоняет бесов и жаб
(К радости баб),
А кто-то, с кривым садовым ножом,
В лужу крови своей погружен…
Кто он? Дублер времен?
От рассвета отрезал сон,
Бородой как лезвием вооружен,
Или картинка из книги он?
Вот он последнюю змею отрубил,
Как тонкую веточку, чей язык
Истерся в наждачных объятьях травы.
Каждое утро – это я, а не вы, –
То на тот, то на этот бок,
Я, в постели ворочающийся Бог,
Иногда добрый, и злой иногда,
С лицом, изменчивым, как вода,
Я всех разнодышащих создаю,
Всех, за кем глаза смерти следят:
И мамонта, и с дерева – воробьев водопад,
И бурундука, и змею,
И всеобщую землю – листья летят
Вскачь. Словно утки, лодки кружат
По воде.
Так вот:
Просыпаясь, я слышу Земли приход,