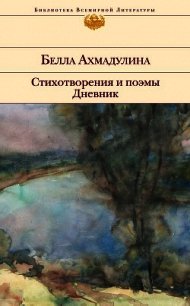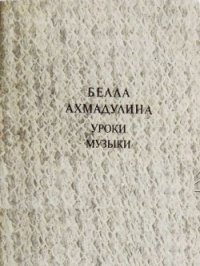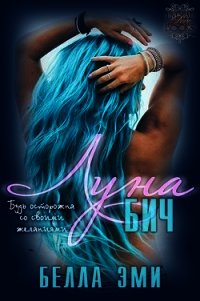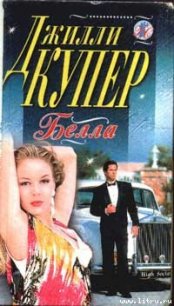Стихотворения - Ахмадулина Белла Ахатовна (онлайн книга без TXT) 📗
Странный гость похвалился:
"Заметьте, мадам,
что я склонен к слезам,
но не склонны к следам
мои ноги промокшие. Весь я - загадка!"
Я ему объяснила, что я не педант
и за музыкой я не хожу по пятам,
чтобы видеть педаль
под ногой музыканта.
Странный гость закричал:
"Мне не нравится тон
ваших шуток!
Потом будет жуток ваш стон!
Очень плохи дела ваших духа и плоти!
Потому без стыда я явился, сюда,
что мне ведома бедная ваша судьба"..
Я спросила его: "Почему вы не пьете?"
Странный гость
не побрезговал выпить вина.
Опрометчивость уст его речи свела
лишь к ошибкам, улыбкам
и доброму плачу:
"Протяжение спора угодно душе!
Вы - дитя мое, баловень и протеже.
Я судьбу вашу как-нибудь переиначу.
Ведь не зря вещий зверь
чистой шерстью белел
ошибитесь, возьмите счастливый билет!
Выбирайте любую утеху мирскую!"
Поклонилась я гостю: "Вы очень добры,
до поры отвергаю я ваши дары.
Но спасите прекрасную свинку морскую!
Не она ль мне по злому сиротству сестра?
Как остра эта грусть - озираться со сна
средь стихии чужой,
а к своей не пробиться.
О, как нежно марина, моряна, моря
неизбежно манят и минуют меня,
оставляя мне детское зренье провидца.
В остальном - благодарна я
доброй судьбе.
Я живу, как желаю,- сама по себе.
Бог ко мне справедлив
и любезен издатель.
Старый пес мой
взмывает к щеке, как щенок.
И широк дивный выбор всевышних щедрот:
ямб, хорей, амфибрахий, анапест и дактиль.
А вчера колокольчик в полях дребезжал.
Это старый товарищ ко мне приезжал.
Зря боялась - а вдруг он дороги не сыщет?
Говорила: когда тебя вижу, Булат,
два зрачка от чрезмерности зренья болят,
беспорядок любви в моем разуме свищет".
Странный гость засмеялся.
Он знал, что я лгу.
Не бывало саней в этом сиром снегу.
Мой товарищ с товарищем
пьет в Ленинграде.
И давно уж собака моя умерла
стало меньше дыханьем в груди у меня.
И чураются руки пера и тетради.
Странный гость подтвердил: "Вы несчастны
теперь".
В это время открылась закрытая дверь.
Снег все падал и падал, не зная убытка.
Сколь вошедшего облик был смел и пригоже
И влекла петербургская кожа калош
след - лукавый и резвый, как будто улыбка.
Я надеюсь, что гость мой поймет и зачтет,
как во мраке лица серебрился зрачок,
как был рус африканец и смугл россиянин?
Я подумала - скоро конец февралю
и сказала вошедшему: "Радость! Люблю!
Хорошо, что меж нами не быть расставаньям!"
Варфоломеевская ночь
Я думала в уютный час дождя:
а вдруг и впрямь, по логике наитья,
заведомо безнравственно дитя,
рожденное вблизи кровопролитья.
В ту ночь, когда святой Варфоломей
на пир созвал всех алчущих, как тонок
был плач того, кто между двух огней
еще не гугенот и не католик.
Еще птенец, едва поющий вздор,
еще в ходьбе не сведущий козленок,
он выжил и присвоил первый вздох,
изъятый из дыхания казненных.
Сколь, нянюшка, ни пестуй, ни корми
дитя твое цветочным млеком меда,
в его опрятной маленькой крови
живет глоток чужого кислорода.
Он лакомка, он хочет пить еще,
не знает организм непросвещенный,
что ненасытно, сладко, горячо
вкушает дух гортани пресеченной.
Повадился дышать! Не виноват
в религиях и гибелях далеких.
И принимает он кровавый чад
за будничную выгоду для легких.
Не знаю я, в тени чьего плеча
он спит в уюте детства и злодейства.
Но и палач, и жертва палача
равно растлят незрячий сон младенца.
Когда глаза откроются - смотреть,
какой судьбою в нем взойдет отрава?
Отрадой - умертвить? Иль умереть?
Или корыстно почернеть от рабства?
Привыкшие к излишеству смертей,
вы, люди добрые, бранитесь и боритесь,
вы так бесстрашна нянчите детей,
что и детей, наверно, не боитесь.
И коль дитя расплачется со сна,
не беспокойтесь - малость виновата:
немного растревожена десна
молочными резцами вурдалака.
А если что-то глянет из ветвей,
морозом жути кожу задевая,
не бойтесь! Это личики детей,
взлелеянных под сенью злодеянья.
Но, может быть, в беспамятстве, в раю,
тот плач звучит в честь выбора другого,
и хрупкость беззащитную свою
оплакивает маленькое горло
всем ужасом, чрезмерным для строки,
всей музыкой, не объясненной в нотах.
А в общем-то - какие пустяки!
Всего лишь - тридцать тысяч гугенотов.
* * *
Последний день живу я в странном доме,
чужом, как все дома, где я жила.
Загнав зрачки в укрытие ладони,
прохлада дня сияет, как жара.
В красе земли - беспечность совершенства.
Бела бумага.
Знаю, что должна
Блаженствовать я в этот час блаженства.
Но вновь молчит и бедствует душа.
Рисунок
Рисую женщину в лиловом.
Какое благо - рисовать
и не уметь? А ту тетрадь
с полузабытым полусловом
я выброшу! Рука вольна
томиться нетерпеньем новым.
Но эта женщина в лиловом
откуда? И зачем она
ступает по корням еловым
в прекрасном парке давних лет?
И там, где парк впадает в лес,
лесничий ею очарован.
Развязный! Как он смел взглянуть
прилежным взором благосклонным?
Та, в платье нежном и лиловом,
строга и продолжает путь.
Что мне до женщины в лиловом?
Зачем меня тоска берет,
что будет этот детский рот
ничтожным кем-то поцелован?
Зачем мне жизнь ее грустна?
В дому, ей чуждом и суровом,
родимая и вся в лиловом,
кем мне приходится она?
Неужто розовой, в лиловом,
столь не желавшей умирать,
все ж умереть?
А где тетрадь,
чтоб грусть мою упрочить словом?
Не писать о грозе
Беспорядок грозы в небесах!
Не писать! Даровать ей свободу
не воспетою быть, нависать
над землей, принимающей воду!
Разве я ей сегодня судья,
чтоб хвалить ее: радость! услада!
не по чину поставив себя
во главе потрясенного сада!
Разве я ее сплетник и враг,
чтобы, пристально выследив, наспех,
величавые лес и овраг
обсуждал фамильярный анапест?