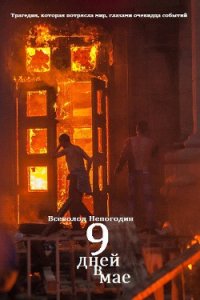И вы, Моря, во снах читавшие безбрежных, оставите ль вы нас однажды вечером под
рострами Столицы, средь гроздьев бронзовых и камня площадей?
Вся ширь, о сонмище, уже внимает нам на этом склоне беззакатной эры: зеленое
необозримо, как на заре восток творенья, — Море,
На праздничных своих ступенях, как ода каменная, — Море; канун и праздник за
нашей гранью, раскат и праздник с твореньем вровень: в самом преддверье нашем —
Море, как откровение небес…
Могильное дыханье розы уже не будет виться у гробницы; живое, не сокроет в
пальмах мгновение души своей нездешней… О горечь, след твой испарился на наших
трепетных устах.
Я видел, как в огнях широт великое смеялось ликованье: снов наших праздничное
Море, как пасха восходящих трав и словно празднуемый праздник;
Все Море в праздничных пределах, под соколиной стаей белых облаков, — как чье-то
вольное угодье, и неделимое владенье, и как поместье диких трав, разыгранное в
кости…
Испей, о бриз, мое именованье! И пусть звезда моя прольется в зрачков безмерных
окоем!.. И дротики Полудня у радости трепещут на пороге. И барабаны бездны
смолкают, уступая флейтам света. И Океан, со всех сторон, свергая тяжесть
мертвых роз,
На наших гипсовых террасах возносит голову Тетрарха [222]!
…Бесконечность обличий, расточительность ритмов… Но ритуала пора настает —
пора сопряжения Хора с благородною поступью строф.
Благодарно вплетается Хор в движенье державное Оды. И опять песнопенье в честь
Моря.
Снова Певец обращает лицо к протяженности Вод. Неоглядное Море лежит перед ним в
искрящихся складках,
Туникою бога лежит, когда расправляют любовно ее в святилище девичьи руки,
Сетью общины рыбацкой лежит, когда расстилают ее по прибрежным отлогим холмам,
поросшим нещедрой травою, дочери рыбаков.
И, петля за петлей, бегут, повторяясь на зыбком холсте, золотые узоры просодии —
это Море само, это Море поет на странице языческим речитативом:
«…Море Маммоны, Море Ваала, Море безветрия и Море шквала, Море всех в мире
широт и прозваний, Море, тревожность предначертаний, Море, загадочное прорицанье, Море, таинственное молчанье, и многоречивость, и красноречивость, и древних сказаний неистощимость!
Качаясь, как в зыбке, в тебе, зыбучем, взываем к тебе, неизбывное Море! — изменчиво-мерное в своих ипостасях, неизменно-безмерное в ценности гулкой;
многоликость единого, тождество разного, верность в коварстве, в дружбе
предательство, прилив и отлив, терпеливость и гнев, непреложность и ложь, и
безбрежность, и нежность, прилив и отлив — взрыв!..
О Море, медлительная молниеносность, о лик, весь исхлестанный странным сверканьем! Зерцало изменчивых сновидений, томленье по ласкам заморского моря!
Открытая рана во чреве земном— таинственный след неземного вторженья; сегодняшней ночи безмерная боль — и исцеление ночи грядущей; любовью омытый
жилища порог и кровавой резни богомерзкое место!
(О неминуемость, неотвратимость, о чреватое бедами грозное зарево, влекущее властно в края непокорства; о неподвластная разуму страсть — подобный влечению к женам чужим, порыв, устремленный в манящие дали… Царство Титанов и время Титанов, час предпоследний, а следом последний, а вслед за последним еще один, вечно — в блеске молнии — длящийся час!)
О многомерная противоречивость, источник раздоров, пристанище ласки, умеренность, вздорность, неистовство, благостность, законопослушность, свирепая
ярость, разумность, и бред, и еще — о, еще ты какое, скажи нам, поведай, о непредсказуемое!
Бесплотное ты и до дрожи реальное, непримиримое, неприру-чимое, неодолимое, необоримое, необитаемое и обжитое, и еще и еще ты какое, скажи, несказанное! Неуловимое, непостижимое, непререкаемое, безупречное, а еще ты такое, каким ты
пред нами предстало сейчас, — о простодушие Солнцестояния, о Море, волшебный
напиток Волхвов!..»
Тебя я вижу вновь натянутым, как парус,
Широкий щедрый шелк без складок и морщин, —
Три яруса твоих, и каждый ярус — ярость:
Сладчайшее из чувств, глубокое, как гимн.
Взывавший к сердцу цвет был красным, — нет, вернее,
Увядшим розовым — не розы лепестком,
А несколько иным — тоскливей, лиловее,
Таким, как сквозь века загубленная кровь
Марата. Белый цвел чуть видной желтизной,
Патиной времени с поверхности картины
И смерти кротостью
Закатной полосы смягчал багряный зной.
А синий жёсток был, как очи высоты,
Как непроглядность сфер, в плену держащих бога…
О, беспощадный цвет вдоль древка боевого,
О, неба синева бездонной чистоты!
Но главным был Глагол: тысячеустым словом
Роптала и звала, напутствовала ткань,
Поникшему в борьбе приказывала — встань!
Шептала, как любовь, как злоба, проклинала.
Из золоченых букв, своим смущенных блеском,
Ковался лемех слов, которым власть дана
Вздымать пласты земли, — и содрогалась жалость
От боли, что земля претерпевать должна.
И в выкриках мужчин, и в лепете детей —
Ты, огненный Глагол, начало всех Историй,
Сжигающий дотла оплоты и устои,
Чтоб прах развеять их над ржавчиной цепей.
Честь, выполнив свой долг, попрала муки, страхи.
Великих жертв призыв, пронизывая твердь,
Взмывает с алтаря кровавой, липкой плахи,
И знамя говорит: Свобода или Смерть.