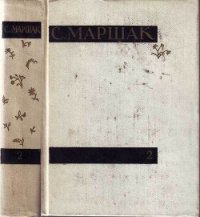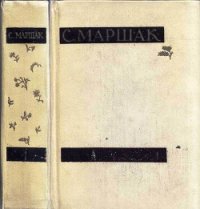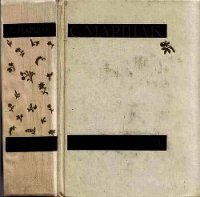Собрание сочинения в четырех томах. Том четвертый. Статьи и заметки о мастерстве. - Маршак Самуил Яковлевич
Живой Горький
— Надо, чтобы люди были счастливы. Причинить человеку боль, серьезную неприятность или даже настоящее горе — дело нехитрое, а вот дать ему счастье гораздо труднее.
Произнес эти слова не юноша, а пожилой, умудренный опытом, знакомый с противоречиями и трудностями жизни писатель — Горький. Сказал он это у моря, ночью, и слышало его всего несколько человек, его друзей.
Я записал врезавшуюся мне в память мысль Горького дословно. Жаль, что мне не удалось так же запечатлеть на лету многое из того, о чем говорил он со мной и при мне в редкие минуты своего досуга. Записывать его слова можно было только тайком. Заметив руках у своего слушателя записную книжку и карандаш, Горький хмурил брови и сразу же умолкал.
Пожалуй, не было такого предмета, который не интересовал бы Горького. О чем бы ни заходила речь — об уральских гранильщиках, о раскопках в Херсонесе или о каспийских рыбаках, — он мог изумить собеседника своей неожиданной и серьезной осведомленностью.
— Откуда вы все это знаете, Алексей Максимович? — спросил я у него однажды.
— Как же не знать! — ответил он полушутливо. — Столько на свете замечательного, и вдруг я, Алексей Максимов, ничего знать не буду. Нельзя же так!
В другой раз кто-то выразил восхищение его необыкновенной начитанностью.
Алексей Максимович усмехнулся:
— Знаете ли, ежели вы прочтете целиком — от первого до последнего тома — хоть одну порядочную библиотеку губернского города, вы уж непременно будете кое-что знать.
Впервые увидев у себя за столом новую учительницу, которая занималась с его внучками, он заметил, что она чувствует себя смущенной в его обществе.
Он заговорил с ней, узнал, чтó на свете больше всего ее интересует. А перед следующей своей встречей с учительницей заботливо подобрал и положил на стол рядом с ее прибором целую стопку книг и брошюр.
— Это для вас, — сказал он ей как бы мимоходом.
Он очень любил книги и чрезвычайно дорожил своей библиотекой, но готов был отдать ценнейшую из книг, если считал, что она кому-нибудь необходима для работы.
Насколько мне помнится, Алексей Максимович никогда не именовал себя в печати Максимом Горьким. Он подписывался короче: «М. Горький».
Как-то раз он сказал, лукаво поглядев на собеседников:
— Откуда вы все взяли, что «М» — это Максим? А может быть, это «Михаил» или «Магомет»?..
Горький умел прощать людям многие слабости и пороки, — ведь столько людей перевидал он на своем веку, но редко прощал им ложь.
Однажды на квартире у Горького в Москве происходило некое редакционное совещание.
Докладчица, перечисляя книги, намеченные издательством к печати, упомянула об одной научно-популярной книге, посвященной, если не ошибаюсь, каким-то новым открытиям в области физики.
— Это очень хорошо, очень хорошо, — заметил вполголоса Горький, который в то время особенно интересовался судьбами нашей научно-популярной литературы.
Одобрительное замечание Горького окрылило докладчицу. Еще оживленнее и смелее стала она рассказывать о будущей книге.
— Любопытно было бы, — опять прервал ее Горький, — посоветоваться по этому поводу с Луиджи… — И он назвал фамилию какого-то ученого, с которым незадолго до того встречался в Италии.
— Уже советовались, Алексей Максимович! — не задумываясь, выпалила редакторша.
Горький широко раскрыл глаза и откинулся на спинку стула.
— Откуда?.. — спросил он упавшим голосом.
Он казался в эту минуту таким смущенным и беспомощным, как будто не его собеседница, а он сам был виноват в том, что произошло.
Больше Горький ни о чем не говорил с этой не в меру усердной редакторшей. Иностранный ученый Луиджи… (не помню фамилии) навсегда погубил ее репутацию.
У Алексея Максимовича было много корреспондентов — пожалуй, больше, чем у кого-либо из современных писателей, и значительная часть писем, засыпавших его рабочий стол, приходила от ребят и подростков.
Горький часто отвечал на эти письма сам, горячо отзываясь на те детские беды, мимо которых многие проходят совершенно равнодушно, считая их пустяковыми.
Помню, я видел у него на столе бандероль, приготовленную к отправке в какой-то глухой городок на имя школьника. В бандероли были два экземпляра «Детства».
Оказалось, что у мальчика большое огорчение: он потерял библиотечный экземпляр этой повести и в полном отчаянии решился написать в Москву самому Горькому.
Алексей Максимович откликнулся без промедления. Он всю жизнь помнил, как трудно доставались книги Алеше Пешкову.
Кто-то запел в присутствии Горького «Солнце всходит и заходит…» — песню из пьесы «На дне».
Алексей Максимович нахмурился и шутливо проворчал:
— Ну, опять «всходит и заходит»!
— А ведь песня-то очень хорошая, Алексей Максимович, — виновато сказал певец.
Горький ничего не ответил. А когда его спросили, откуда взялась мелодия этой песни, он сказал:
— На этот мотив пели раньше «Черного ворона». «Ты не вейся, черный ворон, над моею головой».
И Алексей Максимович припомнил еще несколько вариантов «Черного ворона».
Он отлично знал песни народа. Недаром же он был одним из немногих людей, которым удалось подслушать, как складывается в народе песня.
Кажется, нельзя было найти песенный текст, который был бы ему неизвестен. Бывало, споют ему какую-нибудь песню, привезенную откуда-то из Сибири, а он выслушает до конца и скажет:
— Знаю, слыхал. Превосходная песня. Только в Вятской — или Вологодской — ее пели иначе.
Малейшую подделку в тексте Алексей Максимович сразу же замечал.
Однажды мы слушали вместе с ним радиолу. Шаляпин пел «Дубинушку» («Эй, ухнем»).
Горький слушал сосредоточенно и задумчиво, как будто что-то припоминая, а потом помотал головой, усмехнулся и сказал:
— Чудесно!.. Никто другой так бы не спел. А все-таки
это из девичьей, а не из бурлацкой песни. Я говорил Федору — помилуй, что такое ты поешь, — а он только посмеивается: что же, мол, делать, если слов не хватает?
Пожалуй, немногие заметили эту шаляпинскую вольность. Но Горький был чутким и требовательным слушателем.
Я вспоминаю, как в одну из своих редких отлучек из дому он сидел весенним вечером за столиком в неаполитанской траттории. Люди за соседними столиками, возбужденные весной и вином, смеялись и говорили так громко, что заглушали даже разноголосый гул, который доносился с улиц и площадей Неаполя.
Столики затихли только тогда, когда на маленькой эстраде появился певец, немолодой человек со впалыми, темными щеками.
Он пел новую, популярную тогда в Италии песню, пел почти без голоса, прижимая обе руки к сердцу, а Неаполь аккомпанировал ему своим пестрым шумом, в котором можно было разобрать и судорожное дыхание осла, и крик погонщика, и детский смех, и рожок автомобиля, и пароходную сирену.
Бывший тенор пел вполголоса, но свободно, легко, без напряжения, бережно донося до слушателей каждый звук, оттеняя то шутливой, то грустной интонацией каждый поворот песни.
— Великолепно поет, — негромко сказал Горький. — Такому, как он, и голоса не надо. Артист с головы до ног.
Алексей Максимович сказал это по-русски, но все окружающие как-то поняли его и приветливо ему заулыбались. Они оценили в нем замечательного слушателя.
А сам артист, кончив петь, направился прямо к столику, за которым сидел высокий усатый «форестьеро» — иностранец, — и сказал так, чтобы его слова слышал только тот, к кому они были обращены: