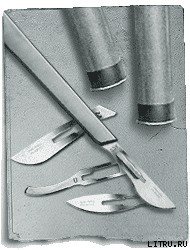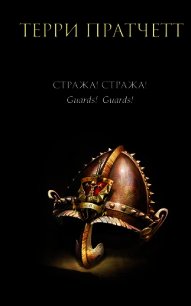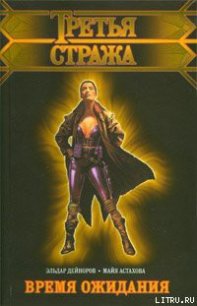Стихотворения. Проза - Семёнов Леонид (читать книги бесплатно полностью без регистрации .TXT, .FB2) 📗
Так случилось то, что он, неверующий, стал верующим, — но, так как Церковь не удовлетворяла его, то вполне естественно то, что он стал последователем Толстого, тем более, что, следуя за Толстым, он становился и на второй путь, указанный сестрой Машей, — учиться у бородачей просто жить, чтобы потом, когда придет пора умирать, умереть просто.
Гл. 8. У деда по отцу Павла Михайловича. Его жена глухая. Гл. 9. Скопцы. Соня.
<ИЗ ГЛАВЫ 9>
Четыре года он жил батраком у сектанта Григория, а когда его дед подарил ему две десятины земли, Алексей построил себе избушку в березовой роще, так живо напоминавшей ему другую березовую рощу и сестру Машу. А вот на девятом году отшельнической жизни, когда, казалось, нашел он, наконец, то, что искал так долго, в него снова закралось сомнение в правильности избранного пути; и неужели виною этого сомнения была дочь сектанта Григория, сестра Соня, как называл он ее?
Сенька слыл обольстителем девок и баб. Потолкавшись один год в городе, он носил городской спинжак, хорошо играя на гармонике, и в обращение с девками вносил городскую вольность на слова и на действия, что и заставляло доверчивых девок и молодух обольщаться им.
Крестьянин он был плохой. Изба Сеньки Гуська, как звали его односельчане, была самая бедная с провалившейся соломенной крышей, но он не думал поправлять ее, т.к. хотел вовсе бросить крестьянскую жизнь и переселиться в город, который манил его, как пьяницу водка, своими разнообразными соблазнами. Это, однако, не мешало ему всю зиму добиваться Сони, дочери Григория, который, несмотря на свое сектантство, а может быть, и благодаря ему, считался богатеем, а единственная его дочь Соня самой богатой невестой.
Однако добиться Сони было не так легко, — суровый и кряжистый сектант Григорий имел на нее свои виды.
Григорий был сектантом не столько по душе, сколько по разуму. Он не просто верил в Бога, а знал, что Бог существует такой же реальный, как он сам, и потому ему не нужно было и церковной обрядности, затемнявшей разум и мешавшей простым деловым отношениям к Богу, с которым он должен был вступить в договорные условия, в какие вступал с помещиками или со своими соседями. Поэтому ближе всего Григорию было скопчество, которое он понимал как определенный договор с Богом, но до поры до времени не хотел сам себя скопить, приберегая эту слишком высокую, “не по карману” плату на всякий случай, про черный день.
— Мы все, мил человек, — плательщики, — любил говорить Григорий, — царю подать платим, друг дружке за всякую там услугу платим, как же, скажи на милость, не платить самому что ни на есть главному. Я так рассуждаю, во-первых, он мне жисть даровал, — Григорий всегда говорил — жисть, — во-вторых, не простую какую-нибудь жисть, а во всем ее великолепии. Ты посмотри только, мил человек, что вокруг тебя деется, разных там растений одних, деревьев, цветов сколько, а живности-то, живности, — да и солнце и месяц и звезды прибавь и все это, так сказать, в твое удовольствие дадено. Живи и пользуйся, только не даром, нет, даром тебе, значит, ничего нет, за все это плата полагается. Ты и плати, всю свою жисть плати, вот и выходит, значит, что мы — плательщики.
И Григорий платил усердно своим трудом и помощью, оказываемой им соседям, — в этой помощи он никогда и никому не отказывал.
В дни неудач он не отчаивался и не жаловался, а только еще больше трудился, и когда жена его останавливала, он ей говорил:
— Ты не поймешь, а я знаю, что делаю; небось и у нас на земле не одну плату платим, год на год не приходится. Милостив, милостив Бог, а тоже своего не упустит. Может, я прошлый год или когда раньше не доплатил, вот, значит, и наросла недоимка, вышел ей срок, ну и взял он свою недоимку, так уж лучше я еще потружусь, авось и другие прорехи заткну, не то, гляди, и капитал отдавать придется, хуже будет.
Капиталом Григорий называл себя самого и членов своей семьи.
В одну из таких тяжелых годин своей жизни, когда жена его, взметывая скирд, упала и преждевременно и неудачно родила, отчего была при смерти и потом почти целый год тяжело болела, Григорий стал задумываться о том, что для расплаты с Богом ему необходимо затронуть свой капитал. Первое время он думал о самооскоплении, — часто ходил к старику скопцу Пахому, приглашал его к себе, пытался раз говорить об этом с женой, но та на него так вскинулась, заявив, что “с мерином жить не согласна, а лучше руки наложит на себя”, и так гневно выгнала Пахома, виновника глупости мужа, что Григорий вынужден был отказаться от этой своей мысли. И тогда, сообща с женой, он пришел к другому плану: посвятить вновь ожидаемого ребенка Богу. О том, какое это будет посвящение, они не договаривались, каждый думал об этом по-своему. Григорий мечтал о скопчестве, а его жена считала это событие настолько отдаленным, что об нем нечего было теперь и загадывать.
Ребенком, посвященным Богу, была Соня.
Когда Алексею его революционная деятельность представилась полной лжи и обмана игрой и в душе его громко стали звучать слова сестры Маши об Евангелии, таком простом, как луг, на котором растут полевые цветочки, один другого краше, — перед ним против воли вставал облик Григория, мировоззрение которого в памяти Алексея сливалось с этим определением Евангелия сестры Маши. Вот почему, начиная новую жизнь, Алексей решил прежде всего повидаться с Григорием.
Григорий не удивился тому, что Алексей бросил барскую жизнь и пришел к нему. Барская жизнь в представлении Григория не могла быть достаточной платой для Бога.
— Кому много дадено, с того много и спросится, — часто говорил он, — а что они платят, так грош один, вроде как нищей братии на подаяние, а недоимка-то все растет и растет. Уж на что Александр Александрович, не барином — человеком был, а капиталом расплачивался, троих детей отдал, то-то и оно-то. Небось, там на престоле Всевышнего не один ихний счет лежит. Милостив, милостив Он, долго терпит, все оттяжку дает, а придет время — до последнего ломаного грошика спросит, тут и конец барской жизни будет, завоют.
Алексея принял он ласково:
— Ну, что же, трудись, — сказал он ему, — может, какой счетец и выплатишь, а мне что, я не судья, я такой же плательщик.
В это время Соне шел девятый год. С большой шапкой белых волос, с ясными голубыми глазами, она напоминала лицом Григория и была бойкой и смышленой девочкой. Григорий, посвятив ее Богу и в мечтах своих уже с самого рождения ее отдав скопцам, не считал ее своей и потому не хотел обучать и вообще относился к ней сурово. Жена Григория, наоборот, очень любила свою единственную девочку и последнего ребенка, страдала за нее от излишней суровости к ней мужа, но не попрекала его этим, боясь, что он вспомнит об их общем обещании, которое она хотела всеми силами забыть, полагаясь на время, в надежде на то, что как-нибудь все само собой устроится и Соню не придется никуда отдавать.
Алексею в условиях его новой жизни первое время было легче с детьми, чем со взрослыми. В отношении взрослых к себе он чувствовал и недоверчивость, и сожаление. Недоверчивость со стороны мужского населения Звенящего[319], а сожаление со стороны женского. И то, и другое мешало ему, и потому он охотнее всего шел к детям и подросткам, любил их пытливые вопросы и делился с ними легко и свободно своими знаниями. Привязался он и к Соне, и эта привязанность заставила его говорить о ней с Григорием.
— Не моя она, Божья, — неохотно сказал ему Григорий, — еще как в утробе была, за жену ею расплатился. Пахому обещал, вот и жду сроку, когда время наступит.
Эти простые слова глубоко взволновали Алексея. Ничего не сказал он Григорию, но еще сильнее привязался к девочке и решил во что бы то ни стало спасти ее от той участи, которую готовил ей Григорий. Это спасенье видел он в образовании Сони.
Теперь Соне было шестнадцать лет, рослая, с глубокими голубыми глазами под густыми темными, как стрелы, бровями, если она и не была красивой, то заметно выделялась среди своих сверстниц. Выделялась она не только своей внешностью, но и внутренними качествами.