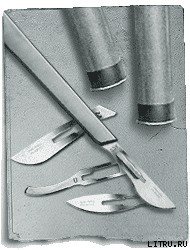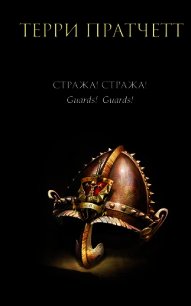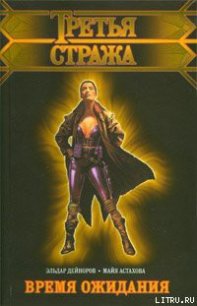Стихотворения. Проза - Семёнов Леонид (читать книги бесплатно полностью без регистрации .TXT, .FB2) 📗
— Золото ты мое ласковое, сердце-то у тебя жалостливое, оттого и будет тебе трудно жить. Ну, Христос с тобой, спи с Богом.
Я выпускаю ее шею, она крестит меня еще раз, я повернусь на бок, закрою глаза и слышу, как нянина заботливая рука подоткнет со всех сторон одеяло, чтобы не дуло, станет тепло и уютно, свернешься клубочком и заснешь незаметно, и верно снится тогда няня.
Или, бывает, проснешься ночью, сон куда-то ушел, станешь ворочаться. В углу горит лампадка, красный свет ее колеблет огромные, серые тени, и вдруг делается страшно, сам не знаешь отчего.
А няня уже слышит, она ищет свои туфли; вот обула ноги, вот шаркает по полу и подходит к кровати.
— Чего не спишь, баловник такой! — начнет она ворчливо.
— Мне страшно.
— Богу вечером молился плохо, улетел от тебя Ангел-хранитель твой, оттого и страшно. Помолись хорошенько, прочитай молитву “Царю Небесный”, и страх пройдет.
— Мне страшно, — всхлипываю я.
— Ну, ну, дурной, вставай что ли, других еще разбудишь, пойдем ко мне.
Няня берет меня на руки и несет в свою кровать, покроет ватным одеялом из пестрых лоскутов, сама ляжет на краешек; я сожмусь в комочек, страх пройдет, и скоро засыпаешь.
— Ну, довольно баловаться, пойдем сундук разбирать.
Мы с Верой соскакиваем на пол, няня встанет, оправив передник, и тяжелой походкой подойдет к кровати, где у нее между подушкой и тюфяком лежат ключи.
У няниного сундука все особенное, и крышка с резьбой, и замок, ключ которого надо сначала вставить бородкой кверху, чтобы раздался звонок, потом уже вставить как следует, повернуть в обратную сторону два раза, причем снова зазвонит звонок. Когда поднимется крышка, из сундука пахнет особенный дух, ни на что ни похожий, а вещи, примятые крышкой, тоже особенно приподнимаются, точно вырастают.
Чего только нет в нянином сундуке.
— Няня, это чего?
— Няня, что это у тебя?
— Няня, как много у тебя вещей!
— Откуда они у тебя?
— Откуда, откуда, все вам знать надо, много будете знать, скоро состаритесь.
И вдруг просветлеет нянино лицо. Бережно вынимая платки, юбки, куски материй, дареные ей в разное время дедушкой или мамой, и откладывая в сторону, она доходит наконец до небольшой шкатулочки красного дерева, перевязанной крест-накрест шелковой ленточкой.
Няня поднимется с пола, сядет на стул и станет осторожно разбирать шкатулку.
— Это бабушки вашей, покойницы, Веры Александровны, царствие ей небесное. Как померла она, барин, дедушка ваш, все мне на память отдал, говорит: ты в жизни хранила ее и после смерти храни, что от нее осталось, а у самого слезы на глазах. Вот уж действительно любил он Веру Александровну, чем только не баловал, да и заслужила она... Нет, не могу. Сколько времени прошло с тех пор, а не могу, к сердцу что-то подкатывается.
Няня поднимает подол передника и вытирает им набегающие слезы.
— Тут все есть, тут и портрет ее, тут и волосы. Няня разворачивает небольшой сверток и из него, как змея, обвиваясь вокруг няниных пальцев, выпадают черные волосы. Мы отступаем, что-то жуткое в движении волос, а няня причитает, забывая нас.
— Матушка, барыня, Вера Александровна, не дожила ты до внуков, не смогла вырастить сокола своего. Вот бы теперь полюбовалась им. Бывало, качаю я Васеньку, подзовешь меня, да и скажешь: “Дарья, я не хочу умирать”. — Что ты, барыня, Христос с тобой. Зачем умирать? — “Нет, Дарья, сны мне снятся такие...” А какие сны, не скажешь, небось ангельские видения снились, только глаза раскроешь широко. Ох, Господи! Или начнешь, бывало, заплетать твои косы, длинные, густые были они, взглянешь ненароком в зеркало, увидишь лицо твое восковое, задрожат руки, остановишься, а ты спросишь: — “Или лица моего испугалась? Ах, Дарья, не долго жить мне осталось, видно! — молчишь, барин ничего не велел говорить, что меня потревожить могло бы”.
Видно, Богу нужны такие, оттого и призвал он тебя рано. Кто я была — крепостной, за крепостным замужем, а ни словечка грубого за всю жизнь от тебя не слыхала. Разобьешь ли что, или так что не ладно сделаешь, другая бы, небось, все волосы выдрала, или прогнала бы куда, а ты улыбнешься только и скажешь: “Ничего, ничего, я сама виновата”. — А барина, дедушку вашего, как любила, ему на службу идти, она возьмет его за руку и не выпускает, все глядит, все глядит, а у самой слезы на глазах стынут.
Мы слушаем и смотрим на пожелтевший портрет нашей бабушки, нам совершенно чужой, и слова няни говорят больше портрета, и оживает эта чужая бабушка и, кажется, вот-вот улыбнется.
— А отчего она умерла?
— Кто ее знает. Грудь у ней болела, кашляла она. Да мало ли у кого грудь болит и кто кашляет, а живут себе. Просто Господь полюбил ее, да и взял к себе на небо, не всем такое счастье — умереть рано. Вон я живу, живу, сколько горя видела, а все Господь не приберет меня. Видно, нагрешила я много, прощения его не заслужила еще.
— Няня, разве грешно жить?
— У Бога-то, небось, лучше; небось, младенец помрет, сразу ангелом станет, — отвечает няня и так же бережно заворачивает портрет и волосы, и золотой крестик, кладет их в шкатулку и перевязывает ее шелковой ленточкой.
— А это что такое? — вытаскивает Верочка что-то желтое, напоминающее клеенку.
— Это — Костина рубашечка, тут и твоя, и Алешина. Все вы в рубашечках родились, один Шурочка голенький.
Мы со страхом смотрим на эти сухие, ни на что не похожие рубашечки, а мне делается обидно, почему я один родился голым.
— Няня, это пряники?
— Пряники, пряники, милая моя. Постой, я отломаю тебе. Тут и варенье есть, подожди ложку отыщу.
Няня угощает нас пряниками и вареньем, и оттого ли, что они не похожи на наши обыкновенные угощенья, оттого ли, что они из няниного сундука, они кажутся нам особенно вкусными, и мы довольны, и я забываю, что я родился без рубашки.
Как хорошо жить, когда есть няня, а у няни большой сундук, а в нем так много вещей, и главное, такие вкусные пряники и такое сладкое варенье.
5
СОЧЕЛЬНИК
Сочельник, день маминого рожденья; в этот день у нас обедают старшие родственники. Таких дней в году только три: осенью — папины именины; зимой — сочельник и весной на Пасхе, один из пасхальных дней.
В эти дни мы обедаем отдельно в детской, и нам всегда бывает особенно весело, потому что мы сами являемся старшими. Перед обедом нас обыкновенно показывают гостям.
— Дети, идите здороваться, — говорит мама, входя к нам в детскую. На ней новое синее платье, которое шумит.
— Какая ты красивая в этом платье, — говорит Костя.
— Мама, это шелк? — спрашивает Верочка.
— Шелк, шелк, милая моя.
В гостиной много народу. Нас сначала подводят к маленькой старушке в большом белом чепце. Это — папина двоюродная бабушка; с ней все особенно почтительны; когда она приезжает, все выходят к ней навстречу в переднюю и сам дедушка ведет ее осторожно под руку, усаживает на диван, целует ей руку и называет ее по-французски “Ma tante”.
— Вот они мои правнуки, — говорит она громко и уверенно, привыкшая к тому, чтобы все ее слушали. — Здравствуйте, здравствуйте, ишь молодцы какие, точно на подбор. И Суворов тут, что же, будешь бить немцев, если война будет?
Я молчу, не зная, что ответить.
— Чего молчишь и краснеешь, точно девица, говори — буду. Небось все воевать пойдут, если царь призовет, а мы, бабы, корпию щипать станем, вам раны мыть будем, вот как. Даром, что я старая, сама в лазарет пойду, может быть, пригожусь еще на что-нибудь, хоть посуду мыть да помои выносить буду.
Она оглянулась, кое-кто из гостей улыбнулся.
— Что вы улыбаетесь, или не верите? Ну так вот, пока вы над вашими бумагами по министерствам разным чаи распиваете, я сегодня уж в Красный Крест справляться ездила; распушила там кое-кого, будут меня помнить. Нет, Иван Васильевич, ты представить себе не можешь, что у них там творится. Мы с немцами воевать собираемся, а у них там этих самых немцев понатыкано, точно частокол какой. Уж досталось от меня этому графу, и отчитала же я его, как говорится, по нашему русскому, православному.