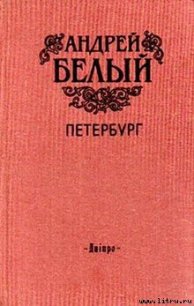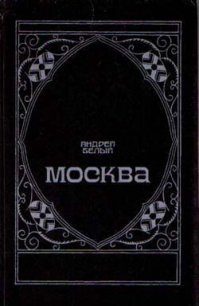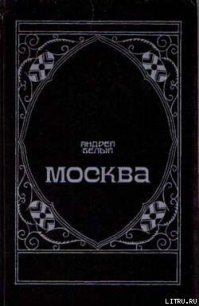Симфонии - Белый Андрей (хорошие книги бесплатные полностью .TXT) 📗
На возвратном пути сообщал о своем труде, «Задачи и методы синтетической философии», и о поездках на север, а мы любовно вглядывались в близорукое лицо и с тайной грустью отмечали на нем морщины. Жадно прислушивались к словам, но не приставали с вопросами. В боязливой стыдливости обнаружилась сила нашей дружбы. Знали, что и сам расскажет нам все на вечерней зоре…
Он пошел отдохнуть. Да и мы разошлись — я и сестра. Было неловко остаться нам с глазу на глаз, было неловко смотреть в глаза. Боялись заговорить о нем в его отсутствие.
Прилив счастья — тихий, пьяный, слегка грустный — уносил сердце, как прежде. Невольно пелись знакомые слова:
Вошла сестра. Мне стало стыдно.
За обедом он рассуждал о текущих событиях: «Меня поражает отношение общества к марксизму!..» Но от меня не укрылось, что сюртук его чересчур ветх. С горьким упреком откинулся на спинку стула, как будто он был виноват, что пронзил мне сердце своей бедностью. Но он не заметил моего волнения. Сестра тоже.
Белый день улетал с ветерком. Наплывал красный вечер. Между нами возникла уютная близость, которую он вносил своим появлением, без которой томились, — уютность, приласкавшая нас. Глаза его засияли, как звезды. Длинными руками перебирал ненужные предметы и заявлял о синтетическом характере русской философии и о многом другом… Отказываюсь передать смысл его слов. Нельзя запечатлеть всех молний. Стучал ножом по столу, портя скатерть… Это было первое звено в цепи откровений, которые он постиг. Уж пропели красные петухи вечера. Белый день канул в бездну ночи. Отовсюду ринулись тени, успокоились — пали на все. Мы суеверно придвинулись к нашему милому, старому другу. Он теперь молчал… Свистнула птичка и как будто пожаловалась на что-то.
Внезапно сестра сказала печально и торопливо, что она устала и что с ним быть хорошо. Вот он уедет. Хлынет старое. Тоскливый ужас камнем падет на сердце. Сказала, и слезы блеснули невольно. Но он молчал, добродушно глядя на нас и, как мне казалось, лукаво. Вдруг хлынула радость, мне захотелось ему подсказать его тайну. Он сидел молчаливый, опоясанный счастьем. Одна рука покоилась на перилах террасы. На другую склонил голову. И сестра взяла его широкую руку. Взяла и поцеловала со словами: «Пусть сердце утонет в восторге при виде тебя». И не противился. Казалось, не слушал сестры, весь ушедши в безмолвие. Знакомые волны опять уносили. Опять после долгой разлуки я хотел сказать о несказанном, но подумал: «Он знает все». Но он молчал.
Сверкающий метеор тихо понесся над нами. И растаял. Все осталось по-прежнему. Только глубокая грусть отуманила взор старика. Разошлись со свечами в руках.
Глубокой ночью я гулял. Мне казалось — окрестности улыбались луной, а липы слишком вытягивались, бросая тени. Глубокой ночью облака, как события, наплывали отовсюду. В комнате сестры не потухала свеча. Значит, и сестра не спала. Мы сладко терзались несказанным.
Глубокой ночью не раз подходил к его двери, чтоб приложиться к замочной скважине. Виднелась сутулая спина, склоненная над столом; не было видно головы, припавшей к рукописи: писал о задачах и методах синтетической философии или о многом другом…
Утром свистели синицы. Было холодно и туманно. За рекой прыгал красный петух: там развели костер, и теперь пламень лизал синюю мглу.
Неловко встретились за чаем на террасе, точно стыдясь друг друга. Он был в синем пальто. Он казался бледный и грустный, сказал, что уедет. На его сапогах я заметил заплату. Ноющая боль поднялась в моей груди. Я не задерживал его.
Крепко пожали руки на станции. «Скоро увидимся» — это был последний привет, о котором так часто вспоминаем теперь, в эти зимние вечера, когда вьюга плачет над старым домом.
Скоро он побежал за носильщиком в вагон московского поезда. В последний раз его фигура мелькнула в окне вагона! Он устанавливает над головой чемоданчик. Сестра закивала ему. Он нас не заметил.
Недавно появился в печати его незаконченный труд: «Задачи и методы синтетической философии»…
Недавно я был на его могиле. Снег кружился у моих ног, и я все смотрел на трепещущий огонек лампадки.
Теперь в эти зимние дни мы часто говорим с сестрой о том, что произошло между нами троими. Но мы останавливаемся больше на нем, чем на словах, обращенных к нам. Нам страшно в них разбираться. Мы теперь позабыли будущее: ведь он был весь — будущее, но он отошел в прошлое. Прошлое опять заслоняет все. Мы многое забываем и обращаемся к обыденности. С нами уж нет никого из своих, милых.
День за днем — золотой, бирюзовый, метельный — тихо падает в чашу безвременья…
РАССКАЗ № 2
(Из записок [чиновника])
Вчера я послал ей письмо. Опять я не мог удержаться, потому что она думала обо мне — я это знаю… Я всегда знаю, когда она думает обо мне… Тогда я представляю себе ее синие очи и грустно-коралловую улыбку уст… Она смотрит на меня немного удивленно, полусмеясь от сочувствия… И в то же время она боится моих диких выходок… Мы с ней даже незнакомы, но я имею дерзость посылать ей письма. Боже вечностей… Я не мог ошибиться в том, что она думает обо мне, — ведь Ты же создал все так, что «оно» — одно, несмотря на расстояния… И мы всё встречаемся где-то, по нашему желанию, вне пространства и времени, и там знаем друг друга… Боже Вечности, ведь это же так, и я был прав, когда послал ей ответ на ее думы обо мне… Тем более что меня разбудил в ту ночь нестерпимо яркий месяц, ущербный и красно-золотой на зеленеющем восходе, ему вдогонку пылали желто-розовые пыльные зори… Я ей писал, что это — мое последнее письмо… Что воспоминание о ней я унесу в бледно-голубую бесконечность… Я отрезывал себе дальнейшую возможность ей писать, но зато я оправдывал свое теперешнее письмо…
Я ей давно не писал… Она слишком испугалась моего последнего письма, пропитанного диким драматизмом, чуть-чуть напускным, но что ж делать?.. Я не мог объяснить ей «все» своими, простыми словами и выдумывал искусственные обороты и напыщенные сравнения… И я достигал своей цели… В своей ходульной манере выражаться я достиг особой искренности, которая вполне заменяла простоту и давала возможность изъясняться, хоть и на другом языке.
Я не мог ее позабыть… Она была для меня моим спасением… Без нее на меня наплывали стародавние детские кошмары, не покидавшие меня, хотя я уже не был ребенком… И я погибал в трясине ужасов, и трясина засасывала меня, и я чувствовал насмешливое безумие, расставлявшее мне ловушку…
Мог ли я не схватиться за воспоминание о ней, которое прогоняло ужасы и убаюкивало одинокое сердце кроткой, розовой сказкой… И хоть я редко встречал ее, но мог вызывать ее образ, следить за ним, и я верил своему ясновидению, и это было моим последним спасением — торжеством над пространством… О Боже, о Боже, не отымай у меня этой последней надежды!..
Ведь это было именно так… Она была для меня — иконой непорочной и чистой, святым знаменем, влекущим в Царствие Небесное… Теперь я должен был ей усиленно молиться, потому что одни странные люди уже приглашали меня заняться магией вместе с ними и посылали в мою квартиру тучи внушений и ужасов, так что я едва сдерживался, чтобы не, позабыв всего, броситься вниз головой в трясину ужаса… Я тщетно разгонял ниспосылаемые тучи ужасов — целое общество задалось целью познакомить меня с Сатаной… (Им это было нужно… Для чего, не знаю.) Я это знал — и вот почему я написал ей… Это была моя молитва, моя тихая покорная молитва — одинокая молитва…
[Боже, о Боже, ведь это все было так?.. Ведь] она сама же подумала обо мне? Или мне это приснилось?..
И потом, у меня были еще собственные ужасы, свои тайны особые… Я тихо задумывался… Знаете ли вы тихое раздумье перед зеркалом, где вы отражаетесь, знаете ли вы ожидание у запертой двери вашей квартиры — ужасное ожидание: тогда вам кажется, что за дверью стоит тот, кого вы ждете… И ужас принимает нестерпимые формы от сознания, что этот ожидаемый пришлец может быть лишь двойником, захотевшим познакомиться с самим собою… И волосы у вас на голове начинают тихо шевелиться, и вы стоите у двери, а из окна на вас смотрит яркий, золото-багряный, хохочущий серп…