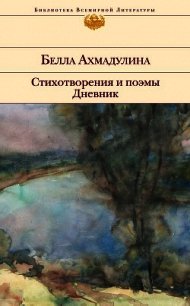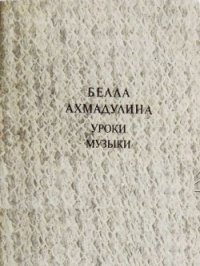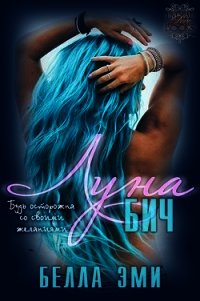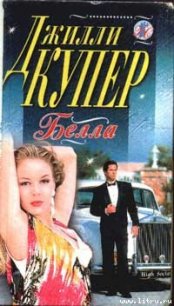Стихотворения - Ахмадулина Белла Ахатовна (онлайн книга без TXT) 📗
они зерно берут, то в доме
живут, словно сверчки в стене.
Иль тычутся в меня они
носами глупыми: рыбешка
так ходит возле ног ребенка,
щекочет и смешит ступни.
Порой вкруг моего огня
они толкаются и слепнут,
читать мне не дают, и лепет
их крыльев трогает меня.
Еще придумали: детьми
ко мне пришли, и со слезами,
едва с моих колен слезали,
кричали: "На руки возьми!"
Прогонишь - снова тут как тут:
из темноты, из блеска ваксы.
кося белком, как будто таксы,
тела их долгие плывут.
Что ж, он навек дарован мне
сон жалостный, сон современный,
и в нем - ручной, несоразмерный
тот самолетик в глубине?
И все же, отрезвев от сна,
иду я на аэродромы
следить огромные те громы,
озвучившие времена.
Когда в преддверье высоты
всесильный действует пропеллер,
я думаю - ты все проверил,
мой маленький? Не вырос ты.
Ты здесь огромным серебром
всех обманул - на самом деле
ты крошка, ты дитя, ты еле
заметен там, на голубом.
И вот мерцаем мы с тобой
на разных полюсах пространства.
Наверно боязно расстаться
тебе со мной - такой большой?
Но там, куда ты вознесен,
во тьме всех позывных мелодий,
пускай мой добрый, странный сон
хранит тебя, о самолетик!
Магнитофон
В той комнате под чердаком,
в той нищенской, в той суверенной,
где старомодным чудаком
задор владеет современный,
где вкруг нечистого стола,
среди беды претенциозной,
капроновые два крыла
проносит ангел грациозный,
в той комнате, в тиши ночной,
во глубине магнитофона,
уже не защищенный мной,
мой голос плачет отвлеченно.
Я знаю - там, пока я сплю,
жестокий медиум колдует
и душу слабую мою
то жжет, как свечку, то задует.
И гоголевской Катериной
в зеленом облаке окна
танцует голосок старинный
для развлеченья колдуна.
Он так испуганно и кротко
является чужим очам,
как будто девочка-сиротка,
запроданная циркачам.
Мой голос, близкий мне досель,
воспитанный моей гортанью,
лукавящий на каждом "эль",
невнятно склонный к заиканью,
возникший некогда во мне,
моим губам еще родимый,
вспорхнув, остался в стороне,
как будто вздох необратимый.
Одет бесплотной наготой,
изведавший ее приятность,
уж он вкусил свободы той
бесстыдство и невероятность.
И в эту ночь там, из угла,
старик к нему взывает снова,
в застиранные два крыла
целуя ангела ручного.
Над их объятием дурным
магнитофон во тьме хлопочет,
мой бедный голос пятки им
прозрачным пальчиком щекочет.
Пока я сплю - злорадству их
он кажет нежные изъяны
картавости - и снов моих
нецеломудренны туманы.
Сон
О опрометчивость моя!
Как видеть сны мои решаюсь?
Так дорого платить за шалость
заснуть? Но засыпаю я.
И снится мне, что свеж и скуп
сентябрьский воздух. Все знакомо:
осенняя пригожесть дома,
вкус яблок, не сходящий с губ.
Но незнакомый садовод
разделывает сад знакомый
и говорит, что он законный
владелец. И войти зовет.
Войти? Как можно? Столько раз
я знала здесь печаль и гордость,
и нежную шагов нетвердость,
и нежную незрячесть глаз.
Уж минуло так много дней,
а нежность-облаком вчерашним,
а нежность - обмороком влажным
меня омыла у дверей.
Но садоводова жена
меня приветствует жеманно.
Я говорю: - Как здесь туманно...
И я здесь некогда жила.
Я здесь жила-лет сто назад.
- Лет сто? Вы шутите?
- Да нет же!
Шутить теперь? Когда так нежно
столетием прошлым пахнет сад?
Сто лет прошло, а все свежи
в ладонях нежности - к родимой
коре деревьев, запах дымный
в саду все тот же.
- Не скажи!
промолвил садовод в ответ.
Затем спросил: - Под паутиной,
со старомодной челкой длинной,
не ваш ли в чердаке портрет?
Ваш сильно изменился взгляд
с тех давних пор, когда в кручине,
не помню, по какой причине,
вы умерли-лет сто назад.
- Возможно, но - жить так давно,
лишь тенью в чердаке остаться,
и все затем, чтоб не расстаться
с той нежностью? Вот что смешно.
Заклинание
Не плачьте обо мне - я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой
на малярийном юге проживу.
Не плачьте обо мне - я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей,
проникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет божью матерь,
убогим богомазом проживу.
Не плачьте обо мне - я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечеткой
мои стихи, моей рыжея челкой,
как дура будет знать. Я проживу.
Не плачьте обо мне - я проживу
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой Марининой пресветлой
уж как-нибудь, а все ж я проживу.
* * *
Однажды, покачнувшись на краю
всего, что есть, я ощутила в теле
присутствие непоправимой тени,
куда-то прочь теснившей жизнь мою.
Никто не знал, лишь белая тетрадь
заметила, что я задула свечи,
зажженные для сотворенья речи,
без них я не желала умирать.
Так мучилась! Так близко подошла
к скончанью мук! Не молвила ни слова.
А это просто возраста иного
искала неокрепшая душа.
Я стала жить и долго прожилу
Но с той поры я мукою земною
зову лишь то, что не воспето мною,
все прочее - блаженством я зову.
Слово
"Претерпевая медленную юность,
впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,
пишу стихи, мне говорят: порви!
А вы так просто говорите слово,
вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна",
так написал мне мальчик из Перми.
В чужих потемках выключатель шаря,
хозяевам вслепую спать мешая,
о воздух спотыкаясь, как о пень,
стыдясь своей громоздкой неудачи,
над каждой книгой обмирая в плаче,
я вспомнила про мальчика и Пермь.
И впрямь - в Перми живет ребенок странный,
владеющий высокой и пространной,
невнятной речью, и, когда горит
огонь созвездий, принятых над Пермью,