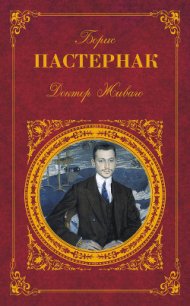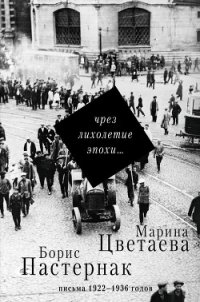Люди и положения (сборник) - Пастернак Борис Леонидович (читать хорошую книгу txt) 📗
– Да… да… Здра… Дайте успокоюсь… Вот Бог привел, – однообразно задыхаясь и плача, шептала она.
Вдруг все исчезло. При свете затепленной масленки стояли друг против друга съеденный острым недосыпаньем мужчина в короткой куртке нараспашку и грязная, давно не умывавшаяся женщина с вокзала. Молодости и моря как не бывало. При свете масла ее приезд, смерть Дмитрия и дочки, о существовании которой он не знал, и, словом, все рассказанное ею до огня оказалось удручающею по своей обязательности правдой, приглашавшей слушателя и самого в могилу, коль скоро его сочувствие – не пустые слова. Взглянув на нее при свете масла, он тотчас же припомнил ту историю, по причине которой, встретясь, они сразу не расцеловались. И, невольно усмехнувшись, он подивился живучести таких предубеждений. При свете масла рухнули все ее надежды на убранство кабинета. Человек же этот показался ей так чужд, что этого чувства нельзя было приписать никакой перемене. Тем решительнее приступила она к своему делу и опять, как когда-то, бросилась его исполнять слепо и наизусть, как чужое порученье.
– Если вам дорог ваш ребенок… – так начала она.
– Опять! – мгновенно вспыхнул Поливанов и пошел говорить, говорить, говорить – быстро и безостановочно.
Он говорил, точно статью писал – с «которыми» и с запятыми. Он похаживал по комнате, и останавливался, и разводил и потрясал руками. В промежутках, морща и собирая тремя пальцами кожу над переносицей, он бередил и растирал это место, как очаг иссякающего и разгорающегося негодованья. Он умолял ее перестать считать, что люди ниже ее выдумок и ими можно помыкать себе в угоду. Он заклинал ее всем, что свято, не нести никогда больше этой околесной, особенно после того, что и сама она тогда же в обмане созналась. Он говорил, что если даже и допустить эту чушь, так ведь она достигает совсем обратной цели. Нельзя никак вдолбить человеку, что то, чего у него минуту назад не было и вдруг явилось, есть не находка, а утрата. Он припоминал, какую беззаботность и свободу сразу испытал он, лишь только поверил ее басне, и как тотчас же пропала у него всякая охота к дальнейшему обшариванию рвов и канав, а захотелось купаться. Так что даже если бы времена потекли вспять, попробовал съязвить он, и снова стало бы нужно искать одного из членов ее семейства, то и в таком случае он стал бы себя беспокоить только ради нее, или игрека, или зета, а никак не для себя или ее смехотворных…
– Вы кончили? – сказала она, дав ему уходиться. – Ваша правда. Я от слов своих отступилась. Неужели вы не понимаете? Пусть это подло и малодушно. Я была без ума от радости, что мальчик нашелся. И как чудесно. Вы помните? Стало ли бы у меня после этого духу разбивать свою и Дмитриеву жизнь? Я и отреклась. Но речь не обо мне. Он ваш. Ах, Лева, Лева, и если бы вы знали, в какой он сейчас опасности! Не знаю, как и начать. Давайте по порядку. С того дня мы не видались с вами. Вы его не знаете. А он так доверчив. Это его когда-нибудь погубит. Есть такой негодяй, авантюрист, – впрочем, бог ему судья, – Неплошаев, Тошин товарищ по корпусу…
При этих словах шагавший по комнате Поливанов встал как вкопанный и перестал ее слышать. Она назвала имя, среди многого другого произнесенное недавно шептавшимся солдатом. Он знал это дело. Оно было безнадежно для обвиняемых, и дело было только в часе.
– Он действовал не под своей фамилией?
Она побледнела, услыхав этот вопрос. Значит, он знает больше нее и дело хуже, чем даже она себе рисовала. Она забыла, в чьем стане находится, и, вообразив, что весь грех в вымышленном имени, бросилась выгораживать сына с совсем ненужной стороны:
– Но, Лева, не мог же он открыто отстаивать…
И опять он перестал ее слышать, поняв, что ее ребенок может крыться за любой из фамилий, известных ему по бумагам, и стоял у стола, и куда-то звонил, и что-то узнавал, и от соединения к соединению уходил все глубже и дальше в город и в ночь, пока перед ним не разверзлась пропасть последней и окончательно правильной информации.
Он оглянулся кругом. Лели в комнате не было. Он испытывал страшную ломоту в глазницах, и когда обводил взглядом комнату, она плыла перед ним сплошными сталактитами, ручьями. Он хотел собрать кожу на переносице, но вместо этого провел рукой по глазам, и от этого движения сталактиты заплясали и стали расплываться. Ему легче было бы, если бы спазмы их не были так часты и беззвучны. Потом он нашел ее. Она громадною неразбившеюся куклой лежала между тумбочкой стола и стулом на том самом слое опилок и сора, который, в темноте и пока была в памяти, приняла за ковер.
1924
Повесть
I
В начале 1916 года Сережа приехал к сестре в Соликамск. Вот уже десять лет передо мною носятся разрозненные части этой повести, и в начале революции кое-что попало в печать.
Но читателю лучше забыть об этих версиях, а то он запутается в том, кому из лиц какая, в окончательном розыгрыше, досталась доля. Часть их я переименовал; что же касается самих судеб, то как я нашел их в те годы на снегу под деревьями, так они теперь и останутся, и между романом в стихах под названием «Спекторский», начатым позднее, и предлагаемой прозой разноречья не будет: это – одна жизнь.
Собственно, приехал он не в Соликамск, а в Усолье. Город белел и грудился на другом берегу, и с заводского берега, из кухни заново отремонтированной докторовой квартиры, с первого же дня очень легко было понять, чем он стоит, и для чего, и с какой стати. Крутой торговый камень собора и казенных зданий мерцал и пасся, шарахнутый врассыпную подрывными припасами сытости, порохом довольства. Сводя в опрятные квадраты это заречное зрелище руки Грозного и Строгановых, оконца у доктора сияли так, точно именно в честь этой дали было сбито и мешочками сливочной пенки развезено по дереву свежее масло малярных белил. Так оно, впрочем, и было, – с худых, прорешливых палисадников конторской слободы нечего было взять.
По кустам, воронам в подмогу, ковырялась оттепель. В воде черных зажор стояли одинокие звуки. Свистки маневренного паровика на Веретьи сменялись голосами игравших детей. Таратор топоров с ближайшего эксплуатационного квартала мешал вслушаться в смутную органную возню далекого завода. Она скорее воображалась, внушенная видом его пяти дымовых шапок, нежели действительно могла быть слышима. Ржали лошади, лаяли собаки. Щепотинкой на нитке повисал, оборвавшись, крик сиплого петушка. А с далекого притока, где из-под сугробов торчали сонные усы спеленутого лозняка, исподволь набегала задорная скоропалка динамо-машины. Звуки были скудны и казались пьяными, потому что плавали по колеям. Между ними торжественно и разгульно разверзались умолчанья зимней равнины. Она таила где-то невдалеке и, по здешним уверениям, чуть ли не в соседней деревне первые отроги Урала. Она их прятала, как дезертиров.
Брат столкнулся с сестрой на ее выходе, – она собралась куда-то по хозяйству. Позади нее стояла рыластая девочка в криво стянутом полушубке. Сестра швырнула кошелку на подоконник, и, пока они обнимались и шумели, девочка, с чемоданом в подхват, болтая вихлявыми валенками, вихрем понеслась в глубь комнат, на крену, как пущенный обруч, обегая стол в столовой. Скоро под градом сестриных расспросов Сережа стал казанским мылом неловко и отвычно отмывать грязные следы двухсуточной бессонницы, и тут, с полотенцем на плече, сестра увидела, как он вырос и исхудал. Потом он побрился. Самого Калязина в этот служебный час дома не было, а его бритвенница, принесенная Наташей из спальни, смутила Сережу полнотою набора. В светлой столовой благодатно пахло колбасой. В черный лак фортепьян разъяренно протягивались кулачки тринадцатипалой пальмы, и ломилась, грозя высадить доску, медная ярь привинченных подсвечников. Поймав взгляд Сережи, скользнувший по туалетно-молочным отливам клеенки, Наташа сказала:
– Это от Пашина предшественника. Обстановка вся казенная. – Потом, замявшись, прибавила: – Страшно интересно, как ты найдешь детей. Ты ведь их знаешь только по карточкам.