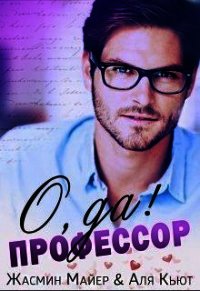Профессор Сторицын - Андреев Леонид Николаевич (версия книг TXT) 📗
Телемахов. Ну, оставь, не люблю. Слушай, Валентин Николаевич, тебе надо остепениться в работе, — да, да, брат, слушай, что я говорю. Зачем выступаешь публично? — не надо. Успех, поклонницы и поклонники, — все это хорошо, но нужно и о здоровье подумать. Ты человек не первой молодости…
Модест Петрович. Валентин Николаевич работает ужасно, до обморока.
Сторицын. Но ты же знаешь, что я не для успеха и не для поклонниц. Что ты говоришь?
Телемахов. Ну — кто же не любит успеха! А скажи, с тобой за это время дурного ничего не случилось, ты что-то невесел? Я думал было, что книга села.
Сторицын. Дурного… Нет, кажется, ничего. Ты куда, Модест?
Модест Петрович. В столовую. Я сейчас вернусь.
Уходит.
Сторицын. Деликатнейший человек!
Телемахов неопределенно смотрит вслед Модесту Петровичу и молчит с явным неодобрением. Сторицын смеется.
Когда я вот так, вдвоем, смотрю на тебя, мне хочется смеяться, как жрецу. Ты все такой же, Телемахов?
Телемахов. А ты? А, пожалуй, пора бы перемениться. Еще не научила жизнь?
Сторицын(улыбаясь). Учит. Да, вот что я хотел сказать тебе: у меня книги стали пропадать. Ворует кто-то. На днях у букиниста нашел книгу со своим ex libris.
Телемахов(исподлобья). Нехорошо, профессор.
Сторицын. Да, очень. Дело не в книгах, хотя пропало довольно много, а в том, что где-то поблизости таится вор… и такой странный вор! Ужасное ощущение, от которого во всех комнатах температура становится на два градуса; ниже. Так-то, Телемахов!
Телемахов. Ex libris имеешь, а ключей от шкапов нет? Лучше наоборот, Валентин Николаевич: у меня простые; номера, но зато ключи есть, и ни одна книга пропасть не смеет! Нехорошо, профессор. Горничная у тебя грамотная, на кого ты думаешь?
Сторицын. Дуня наша неграмотная… и ни на кого я не думаю! Как ты не понимаешь этого, Телемаша: именно думать «на кого-то» я и не хочу. Есть люди, которые радуются, найдя вора, поймав преступника, обнаружив лжеца, — они всегда удивляли меня. Когда я встречаю лжеца, — мне становится так… глупо как-то и нехорошо, что я… сам иногда помогаю ему лгать, против себя же. Нелепо, Телемаша?
Телемахов (пытливо смотря на Сторицына). Нет, постой, — это интересно: а секретарь, ну вот тот, что на машине работал, у тебя все тот же?
Сторицын. Нет уж, все, что хочешь, но только, Бога ради, без шерлоковщины! Достаточно и того, что вместо своих обычных мыслей, обычной работы, я вдруг на мгновение становлюсь… сыщиком. Этакие тонкие мыслишки, комбинации, догадочки… фух, свинство! Свинство, профессор!
Телемахов. Самому и не надо, зачем? Заяви в полицию, тебе пришлют агента…
Сторицын. Оставь! Прости, Телемаша, я, кажется, немного резок, но все это волнует меня… до болезни. Выпей винца, кажется, то самое, что ты любишь… Дурного? Оно случается каждый день, и ты сам его знаешь не хуже меня. Сам ли я становлюсь зол и нетерпелив, но меня поражает ужасающее неблагородство русской нашей жизни. Столько грубости и хамства… противное слово!.. крика и дрязг, и везде на выставке кулак, кулак! В форме ли кукиша, наиболее мягкой с их точки зрения, а больше — в виде гвоздящего молота. Вот вчера: стоит мой Сергей посередине передней и кричит: «Дунька, калоши!» Что за грубость, и откуда он ей научился? Я его, молокососа, никогда Сережкой не называл, а он стоит и кричит: «Дунька, калоши!» Или вот моя Елена Петровна — добрейший человек, ты ее знаешь, не вылезает из разной благотворительности, а не могу ее научить говорить прислуге «спасибо». «Мерси» еще может, это у нее выходит бессознательно и пусто, а «спасибо» — нет, ни за что! И что тут, подумаешь, трудного — спасибо.
Телемахов. Значит, трудно, коли за двадцать лет не научил. Что это она о тебе беспокоиться начала?
Тихо постучавшись, входит Модест Петрович, несет стакан чаю.
Сторицын. Это ты, Модест? Присаживайся, голубчик… Она всегда беспокоится.
Телемахов(вставая). Ну, не знаю. Дело ваше, у меня и своих Дунь достаточно. Так я поеду, Валентин, а ты уж постарайся не волноваться.
Сторицын(обнимая его). Спасибо, Телемаша, старый друг.
Телемахов. Знаю, что совет нелепый, но обязательный… Что у нас сегодня, пятница? Через недельку заеду, поболтаем. До свидания, голубчик. Ты меня не провожай, я еще к Елене Петровне на минутку зайду. До свидания, Модест Петрович. (Уходит.)
Модест Петрович. Суровый человек, неприступный человек! Вот такие точь-в-точь судьи у меня были, как в тюрьму закатывали.
Сторицын. Он юморист. Они там?
Модест Петрович. Да. Сидят.
Сторицын. Не уходи, голубчик. Мне работать сегодня не хочется и не хочется, чтобы кто-нибудь сюда пришел. Ты что, старик?
Модест Петрович(нерешительно смотрит на часы). Боюсь я, Валентин Николаевич, относительно поездов.
Сторицын. Ах, да брось твои Озерки! Черт тебя там поселил, в каких-то Озерках, мало тебе места в Петербурге. Когда последний поезд, в час? Ну, и успеешь, у меня на диване заснешь — ведь не девица. Оставайся.
Модест Петрович(торопливо прячет часы). Я с удовольствием, Валентин Николаевич, только стеснить боюсь.
Сторицын. А какая неловкость вышла с книгой, Модест? Фу, черт, — впечатление такое, будто я хотел похвастаться своим успехом. Ужасно неловко! — я так люблю Телемашу… Про какую это еще тюрьму ты говоришь? Как ты не устанешь повторять одно и то же, старик! Не ты виноват, что дом развалился, а подрядчик, и пора же к этому привыкнуть наконец.
Модест Петрович. Хорошо, Валентин Николаевич… А он говорит: я, говорит, хам незнающий, надо мною, говорит, глаз нужен, если надо мною глаза не будет, я могу всю землю разрушить. Вот ведь как он говорит, Валентин Николаевич.
Сторицын. Оставь! (Ходит.) Он юморист. Я еще его жену помню, красивая была женщина — беспутная, кажется, или что-то в этом роде.
Модест Петрович. Красивее моей бывшей?
Сторицын. Твоя, извини меня, была рожа и мещанка, и ты должен радоваться, что она тебя вовремя выгнала. Они там?
Модест Петрович. Да, я уже говорил тебе, пьют чай… «Я честная женщина, мне незачем ногти чистить».
Сторицын(ходит). Печально, печально… Странно и печально. Вот он говорит, что каждое сердце устает к сорока годам — неправда это, Модест. Как может устать сердце? — это вздор. Сердце может плакать, кричать от боли, сердце может биться, как в оковах, но усталость! Мне сорок шесть лет, — а иногда тысячу сорок шесть, но с каждым днем жизнь я люблю все больше, работу мою все нежнее… К черту усталость, старик!
Модест Петрович. На тебя, Валентин Николаевич, вся Европа смотрит.
Сторицын. Не шевелись, старик! Он сед и желт, как пергамент, что понимает он в радости? Он как глухой в опере. Откуда знать ему эту силу внезапных очарований, — радость трагического, — великолепный ужас внезапных встреч, неожиданных открытий, провалов и высот. Усталость! Вообрази, старик, что ты ученый и что ты тысячу лет искал…
Входит Елена Петровна — высокая, полная дама с бурным дыханием. Лицо ее еще красиво, но очень сильно напудрено. Особенно красивы глаза.
Сторицын(подавляя выражение неудовольствия). Ну что? наконец успокоилась, Елена?
Елена Петровна(пробуя его голову). Тебе не лучше?
Сторицын(осторожно отводя руку). При чем же здесь голова! Что у меня — дизентерия, как у грудного младенца?
Елена Петровна. Не волнуйся. Прокопий Евсеевич сказал, что прежде всего ты должен избегать волнений. Ах, Валентин, я так беспокоюсь! Ну, послушай меня, ну, поедем за границу, ты там отдохнешь, рассеешься. Будем ходить по музеям, слушать музыку…
Сторицын. Нет. Мне надо работать, Лена.