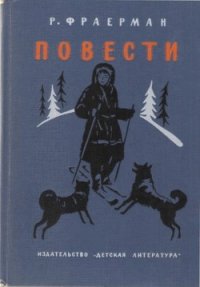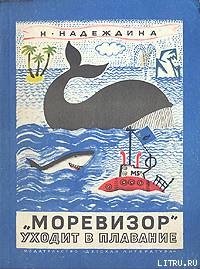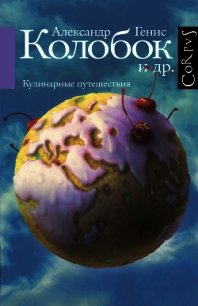Довлатов и окрестности - Генис Александр Александрович (читать книги онлайн бесплатно серию книг txt) 📗
Слово “провинциал” в словаре Сергея было если и не ругательством, то оправданием. Браня нас за недооценку любимого Довлатовым автора, он снисходительно объясняет дефицит вкуса нестоличным, “рижским происхождением”. Попрекал он нас, конечно, не Ригой, а неумением увидеть в малом большое. Корни провинциализма Довлатов находил в широкомасштабности претензий. Низкорослые люди смешны только тогда, когда становятся на цыпочки. Хрестоматийный образец – передовая в мелитопольской газете: “Мы уже не раз предупреждали Антанту…”
Ненавидя претенциозный монументализм, Сергей был дерзко последователен в убеждениях: “Рядом с Чеховым даже Толстой кажется провинциалом”.
Удовлетворенная местом под солнцем Эстония не кажется Довлатову захолустьем, пока тут не становятся на цыпочки: “Вечером я сидел в театре. Давали “Колокол” по Хемингуэю. Спектакль ужасный, помесь “Великолепной семерки” с “Молодой гвардией”. Во втором акте, например, Роберт Джордан побрился кинжалом. Кстати, на нем были польские джинсы”.
Между прочим, у эстонцев, как и у Довлатова, к Хемингуэю отношение особое. Одну фразу из “Иметь и не иметь” здесь все знают наизусть: “Ни одна гавань для морских яхт в южных водах не обходится без парочки загорелых, просоленных белобрысых эстонцев”. Эстония – такая маленькая страна, что она, как Бобчинский, благодарна всем, кто знает о ее существовании.
“Компромисс” – первая книга, которую Сергей сам издал на Западе. Торопясь и экономя, он даже не стал перебирать текст, а взял его из разных журналов, где печатались составившие книгу новеллы.
Сергея тогда убедили, что в Америке пробиться можно только романом, и он пытался выдать за нечто цельное откровенный сборник рассказов. То же самое, но с бо́льшим успехом Сергей проделал с “Зоной”. Для “Компромисса” он придумал особый прием. Сперва идет довлатовская заметка из “Советской Эстонии”, а затем новелла, рассказывающая, как было на самом деле. Насколько аутентичны газетные цитаты, я не знаю, – их сверкой с затаенным злорадством занимаются тартуские филологи. Но дело не в этом. Постепенно усохла сама идея компромиссов, да и в жанровых ухищрениях Сергей разочаровался. К своему несостоявшемуся пятидесятилетию он расформировал старые книги, чтобы издать сборник лучших рассказов: “Представление”, “Юбилейный мальчик”, “Переезд на новую квартиру” – одни изюминки. Назвать все это он решил “Рассказы”. Мы его отговаривали, считая, что такой значительный титул годится только для посмертного издания. Таким оно и вышло.
“Компромисс” был издательским первенцем Довлатова, и он с наслаждением корпел над ним. На обложку Сергей поместил сильно увеличенную фотографию гусиного пера, а к каждой главе нарисовал заставки в стиле “Юности”.
Несмотря на глубокомысленное перо и синюю краску оттенка кальсон, книжкой Сергей гордился и щедро всех ею одаривал – правда, с обидными надписями.
Нашему художнику Длугому он написал: “Люблю тебя, Виталий, от пейс до гениталий”. На моей книге стоит ядовитый комплимент: “Мне ли не знать, кто из вас двоих по-настоящему талантлив”. В экземпляре Вайля текст, естественно, тот же. Но это еще что! На литературном вечере одна дама решила купить стихи Александра Глезера с автографом. Стоявший рядом Довлатов выдал себя за автора. Осведомившись об имени покупательницы, Сергей, не задумываясь, вывел на титульном листе: “Блестящей Сарре от поблескивающего Глезера”.
Как большинство эмигрантских изданий, “Компромисс” был не коммерческой, а дружеской акцией. Книга вышла в издательстве “Серебряный век”, чьим основателем, владельцем и всем остальным был Гриша Поляк – человек, исключительно преданный Довлатову и его семье.
Поляк был постоянным наперсником Сергея. Он жил рядом, они вместе прогуливали фокстерьера Глашу, а потом таксу Яшу и говорили о книгах, которые Гриша ценил даже больше изящной словесности. Довлатов звал его литературным безумцем и писал о Гришиной страсти с уважением: “Книги он любил – физически. Восхищался фактурой старинных тисненых обложек. Шершавой плотностью сатинированной бумаги. Каллиграфией мейеровских шрифтов”.
Тем удивительней, что содержание изданий “Серебряного века” никак не хотело соответствовать их форме. Гришины книги линяли от прикосновения и рассыпались на листочки, как октябрьские осины.
Одно из важных достоинств Поляка заключалось в бесконечном добродушии, с которым он сносил довлатовские измывательства. Может быть, потому, что значительная часть их была заслужена. Гриша отличался феерической необязательностью. Он все забывал, путал, а главное – терпеть не мог отсылать изданные книги заказчикам и даже авторам. Когда все мы совместными усилиями выпустили первый номер очень неплохого альманаха “Часть речи”, Довлатов силой тащил Гришу на почту, осыпая его упреками по пути.
Мыслил Поляк широко. Он собирался издать полное собрание сочинений Бродского, выпустить библиотеку современной поэзии, намеревался наладить книготорговлю в эмиграции и открыть в Нью-Йорке свой магазин. Проффер, глава легендарного издательства “Ардис”, просил с ним об этих проектах не говорить: у Карла был рак желудка, и ему было больно смеяться.
Несмотря ни на что, Сергей не давал Гришу в обиду. Поляк был готовым довлатовским персонажем, и Сергей любил его, как Флобер – госпожу Бовари.
Поэзия и правда
В “Невидимой книге” все имена были настоящими. И это никого не смущало, потому что Сергей писал обо всех только хорошее: “Я мог бы вспомнить об этих людях что-то плохое. Однако делать этого принципиально не желаю. Не хочу быть объективным. Я люблю моих товарищей”.
В “Компромиссе” имена тоже были настоящими, но на этот раз Довлатов о знакомых уже не писал ничего хорошего.
Перемывая всем косточки, Сергей доставлял величайшее наслаждение собеседникам. Во-первых, это и правда было очень смешно. Во-вторых, лестно входить вместе с Довлатовым в компанию ироничных людей, так хорошо разбирающихся в человеческих слабостях. В-третьих, грело чувство исключительности: от самонадеянности, глупости и меркантильности избавлены лишь члены узкого кружка, хихикающего вокруг Сергея.
Случайным свидетелям хватало трех причин, но для опытных была еще одна, четвертая, позволяющая смеяться над ближним с чистой совестью. Они знали, что стоит им встать из-за стола, как их тут же принесут в жертву.
В эмиграции “Компромисс” никого не задел. Из Америки эстонские функционеры, вроде “застенчивого негодяя Туронка”, казались не менее вымышленными, чем Ноздрев или Манилов.
Хуже стало, когда выяснилось, что Довлатов пишет только с натуры. А натура – это мы. Что мы и составляем тот ландшафт, который он широкими, бесцеремонными мазками переносит на полотно.
Больше всего досталось, пожалуй, Поповскому. Марк Александрович был опытным и плодовитым литератором. Советская власть запретила множество его книг, но выпустила еще больше. В “Новом американце” он дебютировал яростной статьей под названием “Доброта”. Затем, борясь со злоупотреблениями, Поповский развалил единственную действующую организацию в эмиграции – Ассоциацию ветеранов.
Человек безоглядной принципиальности, он был изгнан из четырнадцати редакций. Однако была в его тяжелом характере редкая по благородству черта – хамил Поповский только начальству. Главным редакторам Поповский резал правду в глаза. На первой же планерке в “Новом американце” он выудил из довлатовского выступления цитату из Кафки и пришел в неописуемое удивление. “Я приятно поражен, – восклицал он, – никогда бы не подумал, что вы читаете книги!”
Дальше – хуже: Поповский попрекал всех беспринципностью. Мы отвечали опечатками – в списке редакционных сотрудников его писали то Мрак, то Маркс Поповский.
Владельцам “Нового американца” суровый Поповский внушал такой трепет, что в трудный для газеты момент его назначили заместителем Довлатова. Поповскому отводилась роль Фурманова при Чапаеве – он должен был компенсировать наше кавалерийское легкомыслие.