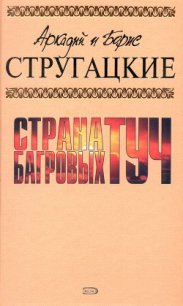О писательстве и писателях. Собрание сочинений - Розанов Василий Васильевич (бесплатные книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Автор «Балаганчика» о петербургских Религиозно-философских собраниях (А. Блок) {30}
На вопрос «кто истинно счастливый человек» Карамзин отвечал довольно неопределенно: «патриот среднего возраста»; на вопрос «кому жить на Руси хорошо» Некрасов ответил, что «никому». Но если бы в минувшую зиму задать два этих вопроса, то ответ был бы ясен: «Истинно счастливый человек на Руси есть Александр Блок», а «живется на Руси хорошо» декадентам вообще и сотрудникам «Золотого Руна» в частности. Они печатаются на великолепной бумаге, они получают великолепные гонорары, и в заключение всего сих «бессмертных» некто г-н Кустодиев воспроизводит то карандашом, то пером, то в красках на страницах того же «Золотого Руна». Бессмертие мысли, увековеченность физиономии и полные карманы — это такие три благополучия, какими едва ли пользуются и «патриоты среднего возраста», и уж, конечно, ничем из этого не пользуются мужики, бабы и попы из длинного стихотворения Некрасова.
Но из всех декадентов решительно больше других процветал в прошлую зиму г. Александр Блок. Легенда рассказывает, что актеры и в особенности актрисы театра г-жи Комиссаржевской в Петербурге осыпали его цветами, и, может быть, не одними цветами, во время постановки знаменитого «Балаганчика» и буквально чуть не задушили его не в одном фимиаме похвал, но и в чем-то более осязательном. «Балаганчик» ставился чуть не подряд сто раз, а по истечении первой сотни представлений он ставился с промежутками после двух дней в третий. О нем говорил весь Петербург. О нем кричала пресса. И хотя одни доказывали, что это — «ерунда», но зато другие уверяли, что это — «гениально». Решительно Александр Блок был самой интересной фигурой за весь зимний сезон 1906–1907 года, ну, конечно, не считая тех выигрышных лошадей, что вечно брали призы на бегах… Те были еще знаменитее, о них говорили и спорили больше, но «божественные» лошади, — применяя эллинско-декадентскую терминологию, — уже выходят за пределы человеческого, открывают область зоологии, и Александр Блок не может особенно оскорбляться тем, что на арене мировой славы его побило копыто лошади…
«Балаганчик», видите ли, — задумчивая вещь. В ряде сцен, ничем не связанных и, по-видимому, бессмысленных, не столько показывается и доказывается (ибо этого ни показать, ни доказать нельзя), сколько излагается, что вся человеческая жизнь и все человеческие отношения, в сущности, представляют собой балаган, шутовство, что-то в высшей степени незначащее и в высшей степени ненужное. Нельзя сказать, чтобы мысль эта отличалась поразительной новостью, и здесь все зависит от того, «как сказано» и «кем сказано». Разумеется, если ее говорит Экклезиаст-Соломон, построивший первый и единственный храм Богу, написавший ранее «Песнь песней» и «Премудрость», все испытавший, все видевший, всего достигший, то тут есть, чего послушать. Но если эту же тему повторяет русский коллежский регистратор, например, женившийся на приданом, недополучивший его и затем пришедший к мысли, что «брак — ерунда», или подвыпивший сельский дьячок, который скандирует:
то это музыка не занимательная. Объявлять, что «мир есть балаган», можно, или нося в душе идеал непереносимо высокий, так сказать, испепеляющий действительность. Но тогда ведь нужно этот идеал не только носить, но и чем-нибудь выразить, в чем-нибудь обнаружить, чем-нибудь доказать, кроме задумчивой физиономии. Или можно объявлять мир «балаганом» приблизительно по тому мотиву, по которому, например, насекомым весь мир кажется насекомообразным, а травоядным весь мир представляется состоящим из овощей и их потребителей. Если бы спросить г. Блока, которому мы не отказываем в способности к простым и ясным суждениям, по которому из двух мотивов он назвал мир, любовь и труд «балаганом», то он, вероятно, очень бы сконфузился… Мы его вывели бы из затруднения, заметив, что он «мира», вероятно, совсем не знает, а написал пьесу, как пьесу… ну, пьесу, которую играют в театре у Комиссаржевской и которая в 1906–1907 гг. имела успех почти скаковых лошадей.
Философ «Балаганчика», 28-летний Экклезиаст, поговаривая «суета сует», забрел и на религиозно-философские собрания в Петербурге… И уже не мудрено, что и там он увидел отдел «Балаганчика». Увидел не по зрелищу, представившемуся ему, и не по словам, которых он и не слушал, а по тому, что в душе его было вдохновение к «Балаганчику»; и, кажется, увидь он около себя отца, мать и даже свою аполлоновскую фигуру в зеркале, он повторил бы: «Э, балаганчик!» Как известно, всякий чижик поет песню чижика, и никакой другой песни ему спеть не дано…
В «Литературных итогах 1907 года», помещенных в январском номере «Золотого Руна», он передает свои впечатления, вынесенные из зала географического общества, у Чернышева моста, где собираются «религиозно-философские собрания». Его поразил электрический свет там. «Отчего не зажгли лучины или, по крайней мере, сальных свечей?» Никому не приходило в голову, почему. «При лучине, — поясняет Блок, — говорили о Боге 500 лет на Руси; или не говорили, а молились, вздыхали, и еще точнее молчали или шептались вдвоем». Но ведь «о Боге» говорили и под сирийским солнцем, и в Индии, среди бананов.
Так не устроить же у Чернышева моста фруктовую лавку с развешанными бананами и не натопить печей до тропической жары, в имитацию древности? Да и вообще к чему все это, весь этот, — простите, — балаган? Вы сами пишете, и печатаясь на отличной бумаге, и окружаясь виньетками, а употребляете стальные перья фабрики «Sommerville et С°», тогда как Гораций писал «стилем», а Грибоедов — гусиным пером. Но что из этого, и какое все это имеет отношение к религии или поэзии? Явно — никакого. И явно — Блок не имеет никакого понятия, кроме внешнего и театрального, о религии, а может быть, и о поэзии. Пораженный, что религиозно-философские собрания происходят не при зажженной лучине, он уже не хочет вглядываться в лица, ни вслушиваться в речи. «Ерунда, — решает молодой Экклезиаст, — лучше шабли, кокотки и кафешантан»…
Экклезиаст начинает «ab ovo» [187], с собраний 1902–1903 гг., где будто «надменно ехидствовали и сладострастно (?!) полемизировали с туполобыми попами» писатели и журналисты; а в этом году «они вновь возобновили свою болтовню», — и только болтовню, — зная, что за дверями стоят нищие духом, и что этим нищим духом нужны дела». Я думаю, что таковые стоят «за дверями» не только зала географического общества, но и редакции «Золотого Руна», на Новинском бульваре, с той разницей не в пользу последней, что двери религиозно-философских собраний отворятся перед «нищими духом», если они захотят туда войти, а двери «Золотого Руна», т. е. самого Блока и друзей его, едва ли отворятся и даже наверное не отворятся. «Образованные и ехидные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе и антихристе, дамы, супруги, дочери, свояченицы, в приличных кофточках, многодумные философы, попы, лоснящиеся от самодовольного жира, — вся эта невообразимая и безобразная каша, идиотское мелькание слов». Нужно заметить, что всякие слова представляются «идиотскими» тому, кто их не слушает, и всякая мысль тоже представляется «идиотской» тому, кто ее не понимает. Так, известный Буренин давно пришпилил ярлык с надписью «идиотство» к стихам самого Блока, которых он не хочет понимать, которые ему противны по самому тону, по стилю, издали. Буквально как Блоку «религиозно-философские собрания»… Зачем же Блок завистливо снимает листочек лавра с седой головы Буренина? До сих пор казалось, что они разных стилей… Зачем свояченицы и жены, — «в кофточках»? Что же, им быть без кофточек или в «неприличных» кофточках, как настаивает Блок, укоризненно указывая, что кофточки «приличны». И что это за высокомерие у Экклезиаста? Да отчего же женам, свояченицам и проч., и проч. не посещать религиозно-философских собраний, и неужели же всем им писать стихи в «Золотое Руно»? Просто они находят для себя занимательнее слушать споры в собраниях, нежели рассматривать портреты, изготовляемые Кустодиевым. И, может быть, в этом лежит причина досады Блока? Во всяком случае, заметим, что в этом гадливом упоминании о «свояченицах, женах, дочерях» и проч. сказалось очень мало раскрытия объятий для «нищих духом», на что, по-видимому, намекает у себя Александр Блок, ибо он за недостаток этого упрекает религиозно-философские собрания. «И вот один тоненький, маленький священник в бедной ряске выкликает Иисуса — и всем неловко; один честный с шишковатым лбом социал-демократ злобно бросает десятки вопросов, а лысина, елеем сияющая, отвечает только, что нельзя сразу ответить на столько вопросов. И все это становится модным, уже модным и доступным для приват-доцентских жен и для благотворительных дам»… Ах, какой язык у Блока! Точно бритва. Как он уязвил приват-доцентов: женам их хоть разводиться с мужьями. «А на улице ветер, — продолжает он патетично, — проститутки мерзнут, люди голодают, а в стране реакция, в России жить трудно, холодно, мерзко». Это, пожалуй, центр статьи его, и самый центр возражения. Но сперва позвольте снять маску или «балаганчик». Которую же из замерзающих на улице проституток согрел Александр Блок, или хоть позвал к вечернему чаю, где он кушает печенье со своей супругой, одетой, как это видели все в собраниях, отнюдь не в рубище? Что же он сделал? А собрания не кое-что, а очень много сделали и определенно делают по всем тем рубрикам, которые он перечислил: 1) и для проституток, 2) для голодных, 3) и вообще по части «реакции» и ее подробностей, по части «жить мерзко» и конкретных приложений этого. Только Блок этого со своим «Балаганчиком» и «Экклезиастом» не заметил, пренебрег заметить… Да «реакция», если хотите знать, вся и основана и утвердилась на этом экклезиастическом равнодушии или попросту свинстве, которое буркает себе под нос: «Суета сует, ничего знать не хочу»… Войдем в маленькое рассуждение. Ведь процент проституток мерзнет сейчас на улице оттого, что когда-то они, совершенно чистые девушки, были брошены мужчиной с первым своим ребенком. Не вое, но некоторый процент с этого начали и бросились в проституцию оттого, что с ребенком девушке ни пристанища, ни работы, ни помощи, ни внимания и заботы. Вот об этой теме на страницах «Золотого Руна» не было написано ни страниц, ни строк, а в религиозно-философских собраниях и в 1902–1903 гг., и в 1907 году толковалось вечера. Он скажет: «Ах, толковалось, а не делалось». Но ведь и Беккария ни одного казнимого не вытащил из рук палача, а плодом написанного и сказанного Беккарией явилось то, что смертная казнь вообще реже применяется в Европе. Вот что значит быть Экклезиастом в 28 лет: бедняжка Блок, всего года три снявший ученическую курточку с плеч, не ведает, что есть непосредственные действия — и они всегда относятся к лицу и только к одному часу, в который совершаются, и есть сказывания и писания, правда, не в эстетических кружках и не в художественных журналах, которые действуют на массы и до известной степени вечно. Правда, Толстой учил, что надо «нагревать воду по капельке», но русские бабы, не внимая сей мудрости, предпочитают вдвигать разом котел воды в печь… Блок соображает, что можно уничтожить проституцию, обнимаясь с проституткой, а в религиознофилософских собраниях воображают, что можно спасти и эту, и ту проститутку, и Катю, и Машу, сказав, доказав и вынудив священников согласиться с собой, что в рождении ребенка нет греха, нет стыда, а есть Божий путь, Божия заповедь, и что, следовательно, всякой таковой женщине ли, девушке ли, вдове ли должна быть дана помощь, совет, поддержка. Катерина Маслова, выведенная в «Воскресенье» Толстого, имела бы в лучах «Золотого Руна» ту же судьбу, как и показанная Толстым, ибо «Золотое Руно» есть бесспорно кусочек, подробность той праздно-золотой столичной жизни, какую изобразил Толстой. А среди участников религиозно-философских собраний Катерина такой судьбы, бесспорно, не получила бы… Ни делом, ни по существу, ни по духу. Блок, если бы слушал что-нибудь в религиозно-философских собраниях, если бы приглядывался к чему-нибудь, мог бы заметить пробуждающееся в них сочувствие, напр., к религиозному строю и быту еврейства. Но почему? Да вот на примере Катерины Масловой лучше всего это можно объяснить. Как-то ко мне приходит швейцар и жалуется: племянница его, ничего не знающая и никакой работы не умеющая делать, осиротев, пришла в Петербург из деревни. Работы здесь не нашла или — точнее — за неумелостью переходила с работы на работу. Между тем ею кто-то воспользовался, из «православно-русских людей». Воспользовался — и оставил, как это и бывает у нас, на улице и «в быту». Девушка, неопытная, несчастная, служила в это время у евреев. Здесь я продолжаю словами швейцара. «И хоть она не умела готовить кушанья, и вообще в работе была этим евреям не нужна, но, видя, что она беременна и ей некуда пойти, они оставили ее у себя жить до разрешения от родов. Родился ребенок. Окрестили. И она пошла к псаломщику взять метрическую выпись. Она взяла бумажку, а он и говорит: «А рубль?» — «У меня нет рубля. Я — нищая». — «Так подай бумагу назад». Она не дала. Он хотел вырвать, но она все-таки не дала и убежала. Не напишите ли о таком безобразии в газетах?» — закончил швейцар. Это было года три тому назад; тогда я не написал, не было случая, а теперь к случаю и рассказываю. Ведь эта забота евреев, не о ком-нибудь, не о чем-нибудь, а именно о беременной девушке, находится в некоторой связи с приклоненностью их уха к старому: «плодитесь! множитесь! «наполните землю». А бездушие псаломщика и совершенное его невнимание именно к молодой матери (нищим-то он, может быть, и подает) находится тоже в связи с отклоненностью нашего уха от той древней заповеди. А самое это отклонение совершилось, когда был провозглашен другой и обратный завет — девства (монашество). Для псаломщика, да и не для него одного, а для всех нас, для всей «православной улицы», она есть блудница, нарушившая завет девства; есть «тварь», «скверна», и мы ее оттолкнули, как оттолкнула и Катерину. Маслову вся православная Русь. Но для еврея по закону, а не по частной доброте той семьи, где она жила, — она была исполнительницей воли Божией, хотя бы и ошибшейся и споткнувшейся в путях этого исполнения. Но в путях одного исполнения, и именно воли Божией! Большая разница с представлением, что она «впала в грех», «преступила заповедь», «закон» (девства). У нас в быту не кое-кто, а все не держат прислуг с ребенком или с животом, а тут первая попавшаяся еврейская семья, первая «для примера», оказалось, держит, не прогоняет. То и другое есть зерно и быта, и воззрений, и, наконец, целой системы законодательства, сперва церковного, а затем от церкви перешедшего к государству. Само собой разумеется, что такой девушке в еврейском быту незачем было бы идти в проституцию, она была бы удержана самим бытом, согрета в нем и обласкана. Напротив, в нашем тоже «быту» ей невозможно не пойти в проституцию, ибо «в таком положении» работница и прислуга никому не нужна, позорно, гадко, всех пачкает: и куда же ей и деться, как не в дом терпимости, где ей «все — ровня». Эту довольно ясную истину разъясняли не в «Золотом Руне», а в религиозно-философских собраниях, разъясняли еще в 1902–1903 годах. И для таких девушек и детей и законодательно кое-что сделано именно после 1902 года. Им дано гражданское положение, о них, по крайней мере, стал говорить закон (чего он прежде не делал, ибо прилично ли «заниматься такой гадостью»); он дал право подобной матери передавать такому ребенку свое имя и свое имущество, тогда как прежде такому ребенку никакими усилиями никакая мать не могла ничего дать, ни щепочки имущества, ни какой-нибудь клеточки социального положения, и его, безродного и безыменного, оставалось только убить, что большинство матерей и делали, после чего их же судили и наказывали!! Это «сквозь строй» прогнание материнства и детства находится, конечно, в связи с новой заповедью: «не плодитесь», «не множитесь» (девство, монашество), далеким камешком от которого прокатился даже и блоковский смех над приличными кофточками «своячениц, дочерей, жен и сестер» — всей этой родовой, родственной «гадости», какую понавели в собрании интеллигенты, священники и приват-доценты. Но ведь чтобы все это привести в сознание и поставить в связь, надо «разговаривать»? Как же иначе-то?!! Нужно разговаривать, беседовать, спорить. Что все и делается у Чернышева моста, в зале географического общества, в петербургских рел. — фил. собраниях, и почему это бесполезнее и ненужнее портретов Кустодиева и «литературных обозрений» самого Блока?