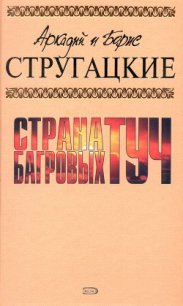О писательстве и писателях. Собрание сочинений - Розанов Василий Васильевич (бесплатные книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Это была еврейка-христианка, лет 38-ми, небольшая, некрасивая, с веснушками по лицу и, кажется, со следами оспы. Она кой-как сводила счеты, уравнивая наши уплаты, недоплаты, и никогда ей лично «переплаты», — со стоимостью провизии и ценою всей «сборной» квартиры. Очевидно, она имела квартиру и «щи» около жильцов, так же мало привередливых, как и сама. Была она вдова, а мальчик ее, лет 9-ти, где-то воспитывался на стороне у «благодетелей», кажется, у крестного ее отца. Вообще же она была какая-то безродная. Скорей веселая, чем скучная. Ни малейше не скупая. И, кажется, совершенно преданная своим жильцам. Об этом сужу по одному случаю, который и связывается в моей памяти последнею связью с Некрасовым.
По коридорчику у еврейки жили и еще какие-то жильцы, которых я не знал и не замечал, не имея к ним никакого отношения. Вдруг товарищ по комнате с большими предосторожностями сообщает мне, притом не дома, а на улице, идя вместе в университет, конфиденциальную новость.
— В квартире нашей поселился агент тайной полиции. То-то он все старается заговорить со мной о том, о сем, а прошлую неделю навязался ехать в гости в баню и по дороге все высказывал свои восторги к Некрасову, к его «страданию за народ», и, очевидно, на почве и моего ожидаемого восторга думал выудить из меня кое-что для себя полезное. Все ругал правительство и говорил, как трудно живется мужику. Хорошо, что я молчал или равнодушно мурлыкал себе под нос. Хозяйка на днях вызывает этого студента-медика, такого нелепого, и, вся трясясь от страха, говорит ему: «Ради Бога, будьте осторожны и не заводите никаких споров по коридору. Новый жилец наш, что поселился рядом с вами, — из тайной полиции. Когда поутру все жильцы ушли на занятия, и я осталась одна, он позвал меня в свою комнату, открыл ящик, показал пистолет и сказал, что он имеет право застрелить меня как собаку, без ответа и без суда, и застрелит, если я хоть одним словом выдам жильцам, что он агент полиции».
Почему этот агент мог предположить, что хозяйка «откроет», кто он (может, по паспорту? — едва ли у агентов обычные «откровенные» паспорты!) — я не знаю. И вообще не знаю ничего, что из этого вышло. Сам я был настолько «благонамерен» в своем археологическом энтузиазме, что мне и в голову не приходило чего-нибудь бояться. Поэтому полицею и всею полицейскою стороною жизни я нисколько не интересовался. Но мы тут же подивились героизму нашей хозяйки: По испугу судя, она нисколько не сомневалась, что «incognito», действительно, имеет полномочие застрелить ее, если только она выдаст его, — и тотчас же и бежала и выдала, только чтобы предупредить опасность для жильцов, которых сегодня знала, а завтра не будет знать и никогда не встретит! Что ей они? Почему же она их жалела? Ради чего сторожила, берегла? Между тем весь ее культурный рост был такой низенький, что, — не впадая в профессию, отнюдь нет! — изредка она получала «рубль в руку» за такие услуги собою, о каких надо предоставить читателю догадаться. Что это было: распущенность, свой «темперамент» или действительно нужда в рублях, в двух рублях, — и до сих пор не умею разобрать! С этой стороны никто о ней не говорил, и вообще она представлялась женщиной «ничего себе, без жеманства», но и без дурных прибавлений. Вот и подите, разберите природу человеческую, и отделите тех, кто «честен», от тех, кто «нечестен». Сколько «безукоризненных женщин» пальцем не шевельнули бы, чтобы, рискуя собою, отвести беду от другого, а эта хоть, может быть, и ошибочно, по своему неразумению, знала, думала, что идет на страшную реальную опасность, отводя от других только возможную опасность.
Одну ночь она, бедная, скулила подлинно как собака. Болели зубы. Болели так, как умеют болеть только зубы. Плач то заглушался, то вырывался из ее комнаты. Всем было жалко. Но все «колебались» и «не знали, чем помочь», — как всегда бывает у русских. Идет двенадцатый час ночи, — скулит. Бьет час, — скулит. Наконец, часу в третьем раздались стоны, беспомощные, жалкие, отчаянные. «Ну, что же делать? Что делать в третьем часу ночи?» — думали мы и, верно, все жильцы. Вдруг кто-то закрякал, забасил и завозился. Послышались сборы, стук двери, — вышли. Это наш медик встал, оделся и повез ее к доктору. Хоть и «неприлично было в 3-м часу ночи», чему все и конфузились, собственно, но он оттолкнул личный конфуз, чтобы избавить от непереносимого страдания хозяйку, до которой ему приблизительно так же не было никакого дела, как и ей до него в политическом отношении и в деле охраны. «Так, по-человечеству» поступили оба. И, верно, забыли. Но мне помнятся оба эти случая.
С Некрасовым у меня связалось это воспоминание потому, что, как читатель видит, уже сейчас же по его смерти поэзия его стала «пробным камнем» для испытания политической благонадежности или неблагонадежности. «Сочувствуешь Некрасову, — значит, сочувствуешь «угнетенному народу» или «воображаешь народ в угнетении», и, значит, «способен на всяческое, — ищи дальше»… Напротив, кто равнодушен к поэзии Некрасова, или, особенно, враждебен ей, о том правительство полагало, что этот субъект не составит для него хлопот. Это характерно и, во всяком случае, это в истории следует запомнить. Любопытно, отчего таким «критериумом» не выбирался, например, Щедрин, не выбирался Михайловский? Мне думается, оттого, что Некрасов был лирик, а не «рассуждал», как те два, и, во-вторых, что он давал схемы, шаблоны, как бы строил «общепроездные рельсы». Именно в силу общности своей и невнимания к частностям, к подробностям, к «узору» жизни и человеческих физиономий, он толкал всю массу нашего русского общества в известную сторону, «нежелательную» для режима, и притом «лирически» толкал, т. е., в сущности, мучительно звал, призывал, требовал, откуда уже родилось действие. Он «мучил сердца», как чародей-демагог, а из «измученного сердца» всегда рождается поступок.
Вот отчего через 30 лет по его смерти земля русская должна низко поклониться в сторону его могилы. И, может быть, наше время — такое, что поклон будет особенно выразителен, да и голова опустится пониже.
Л. Андреев и его «Тьма» {29}
…Наконец я одолел почти месячную антипатию и прочел давно рекомендованную мне новую «вещь» Леонида Андреева — «Тьма» [180], помещенную в кн. III альманаха «Шиповник». Кажется, ее прочла уже вся Россия и вся печать о ней высказалась.
«Вещь» написана гораздо лучше, чем «Иуда Искариот и другие» [181]. Автор стоял здесь гораздо ближе к быту, к нашим дням, и фантазия его не имела перед собою того простора «далекого и неведомого», в котором она нагородила в «Иуде» ряд несбыточных и смешных уродливостей. Затем, все письмо здесь гораздо менее самоуверенно, оно очень осторожно: и, напр., почти не встречается прежних его «пужаний» читателя — самой забавной и жалкой черты в его писательской манере. Вычурностей в польско-немецком стиле меньше, и они лежат не страницами, а только попадаются строчками. Напр.:
«Таким же быстрым и решительным движением он выхватил револьвер, — точно улыбнулся чей-то черный, беззубый провалившийся рот»…
Или:
«Закрыв ладонями глаза, точно вдавливая их в самую глубину черепа, она прошла быстрыми крупными шагами и бросилась в постель, лицом вниз».
Все эти напряженные, преувеличенные сравнения напоминают собою живопись польско-русского художника Катарбинского. И вообще в литературе, я думаю, Л. Андреев есть русский Катарбинский. Та же аффектированность. Отсутствие простоты. Отсутствие глубины. Краски яркие, кричащие, «взывающие и поющие» — не от существа предмета и темы, а от души автора, хотящей не рассуждать и говорить, а удивлять, кричать и поражать. «Катарбинский! Катарбинский», — это шепталось невольно, когда я смотрел «Жизнь человека» в театре г-жи Коммиссаржевской.